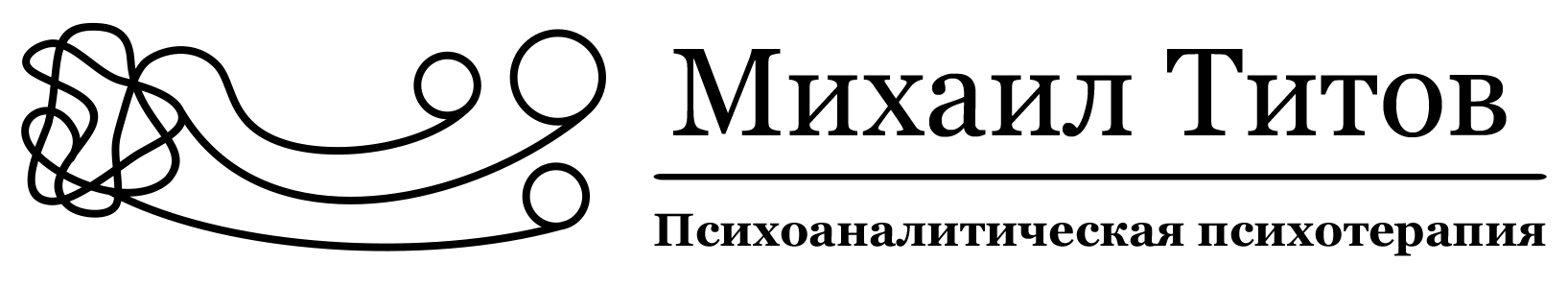Мишель де М'Юзан
Новые перспективы в психоанализе (2008)
Статья из книги "Permanent Disquiet: Psychoanalysis and the Transitional Subject"
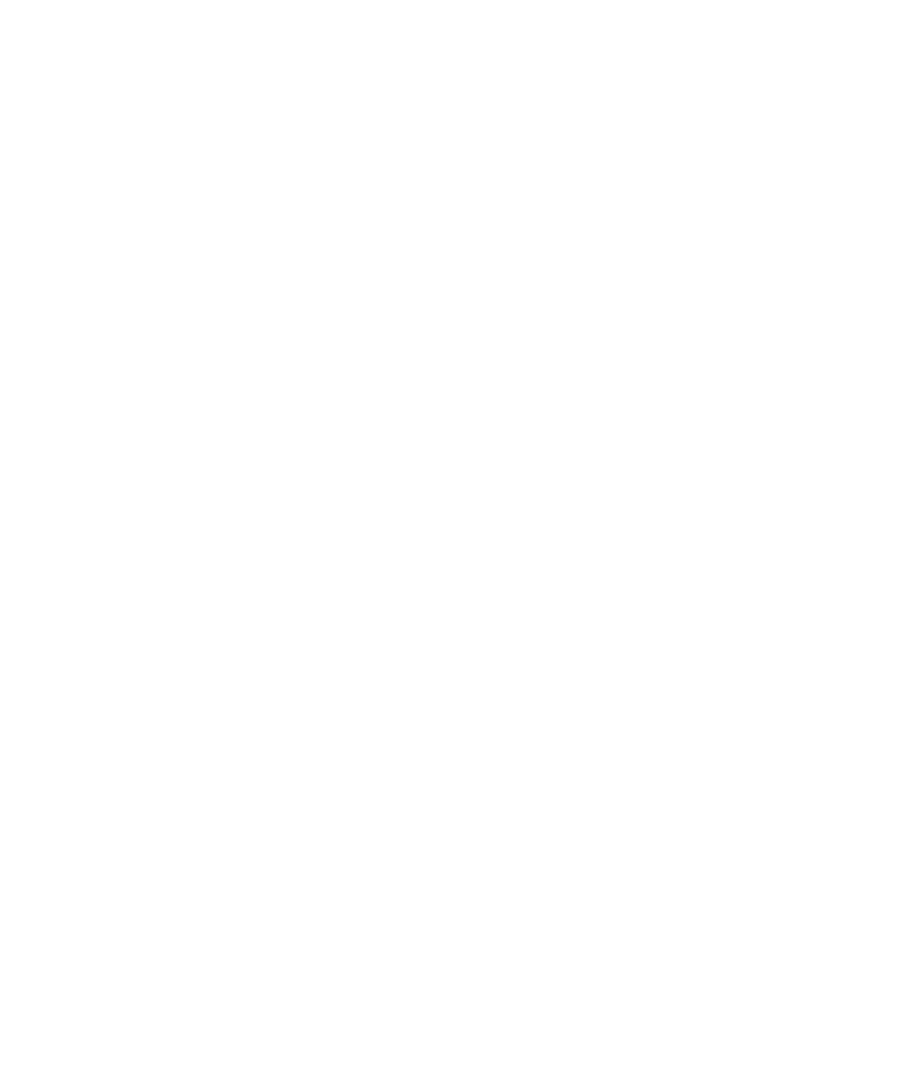
Достигнув определенного возраста и имея большой опыт, можно проследить, как с годами вводились идеи, приводящие к другим, не всегда так, как это предполагалось. Если это так, то мы имеем право не признавать себя виновными. Во всяком случае, эти идеи были достаточно настойчивы, чтобы заставить обращать на них пристальное внимание. И именно поэтому я не мог, например, не заметить некоторые несвязные элементы в аналитическом корпусе в том виде, в каком он был передан нам. Отсюда и название этой главы.
На самом деле можно выявить серьезные неточности и противоречия не только внутри двух топографий и двух теорий «инстинктов», но также и, прежде всего, между двумя стадиями фрейдовского здания. Поэтому было неизбежно, что однажды возникнет беспокойство о согласованности, даже если мы долгое время, слишком долгое время, приспосабливались к ситуации. Эта забота о связности породила настоятельную необходимость в уточнении, рискуя стать излишней смелостью, достаточно упорядоченного «теоретического здания». Позвольте мне объяснить. Рассмотрим, например, ситуацию, связанную со знаменитым влечением к смерти. Разве не удивительно, что Фрейд (1920) в работе «По ту сторону принципа удовольствия» (глава 6, первый абзац) ставит смерть на сторону самосохранения, только ради того, чтобы сразу же после этого отказаться от этой гипотезы, выдвинув вторую теорию влечений, о которой он говорит (все в той же главе), что не уверен, что сам в неё верит? Возможно, и еще более серьезным, если можно так выразиться, является удар, нанесенный второй структурной теорией психического аппарата (Я, Оно, Сверх-Я) открытию одного из самых невероятных находок в истории мысли: признание Бессознательного, системного Бессознательного, со всеми его отличительными элементами (отсутствие понятия о прошлом, нерепрезентированность смерти и т. д.). Как мы знаем, это было открытие, по важности равное двум другим нарциссическим ранам, нанесенным человечеству сначала Коперником, а затем Дарвином (см. Freud, 1917). Это открытие было плохо воспринято даже аналитиками, о чем свидетельствует использование этого понятия системного Бессознательного во второй топографии, где Бессознательное - не переставая существовать? - становится качеством, которое можно распознать как в Я, так и в Сверх-Я и Оно. Такая эволюция дает пищу для размышлений, и это возможность вспомнить вместе с Эрнестом Джонсом, что, если бы Фрейд умер сразу после написания великих метапсихологических статей 1915 года, у нас была бы полная картина психоанализа в его классической форме. Таким образом, когда теория доказала свою ценность, открытия, которые следуют за ней, не могут заменить собой или даже просто добавиться к первой системе взглядом. Поэтому прежде чем поддерживать их, необходимо оценить, насколько они могут быть «органически» интегрированы с первой теоретической конструкцией. Психосоматическая медицина является хорошей иллюстрацией этого и даже может служить призывом к порядку. Психоаналитиков, которые очень хорошо относятся к топографической и динамической точкам зрения, гораздо больше смущает экономическая точка зрения, то есть тот факт, что количество может быть знаком судьбы; хотя количество, как скажут, легче произвести, чем измерить. Психоаналитическая психосоматическая медицина, правда, декларирует общую цель, группирую соматозы, психоневрозы и даже психозы как части одного порядка. Такой подход должен помочь избежать ошибки отнесения того или иного пациента к той нозографической категории, к которой он не принадлежит.
В качестве примера я хотел бы привести два старых и сопоставимых случая. Однажды по одной и той же причине со мной связались два ментора, которых сейчас уже нет в живых. Оба они знали о моем интересе к психосоматике. Два этих прекрасных клинициста диагностировали невроз навязчивых состояний у своих пациентов, поскольку присутствовали все семиологические элементы. Одновременно заинтригованные и огорченные, оба они наблюдали у своих пациентов начало очень серьезного приступа язвенного геморрагического колита, один из пациентов приближался к концу своего анализа, а другой находился в середине анализа. Что произошло? Я мог только предполагать, что часть экономики этих пациентов ускользнула от их внимания. Действительно, все, что относилось к обсессивному невротическому регистру, было проработано и проанализировано, но потребовалось лишь событие экономического порядка (вероятно, интервенция), чтобы сокрушить адаптивные способности обсессивной системы, которая рухнула, как карточный домик, и вся эта экономика переместилась куда-то ещё. Я мог бы, как и другие, вспомнить множество подобных ситуаций. Такие просчеты требуют размышлений и лежат в основе понятия психоаналитической психосоматики, призванной объединять две вселенные. Следовательно, потребовался не один день, чтобы достичь точки, в которой можно было установить достаточно последовательную объединяющую теоретическую концепцию. Это ни в коем случае не недавние искания, потому что я обнаружил их следы, относящиеся к 1969 году, в докладе, который я сделал на коллоквиуме Парижского психоаналитического общества, посвященном навязчивому повторению. Связь между этим понятием и влечением к смерти* кажется самоочевидной. Я оставался в смятении, не решаясь проследить за этим движением, во-первых, потому, что моя клиническая практика регулярно сталкивала меня с феноменом повторения, понимание которого никоим образом не требовало обращения к роли определенного влечения (так называемое влечение к смерти); а во-вторых, потому, что я предпочел указать на клинически идентифицируемое противопоставление между явлениями «повторения идентичного»* и теми, где повторение аппроксимативно — повторение сходного* (см. «сходное» и «идентичное» в словаре) — оппозицию, которую можно найти в словаре. Поэтому я оставил вопрос о влечении к смерти для других случаев, проявив, таким образом, осторожность — фактически элементарную осторожность, которая позволяет в более поздних работах не оставаться пленником первоначальных позиций. Поэтому в то время было необходимо оставить место для критического осмысления; другими словами, заняться некоторым размышлением, а затем начать накапливать наблюдения с целью подвергнуть их тщательному и внимательному рассмотрению. Так было, когда в течение нескольких лет Пьер Марти, Кристиан Давид и я неделю за неделей анализировали записи первичных интервью с предсказуемо «психосоматическими» пациентами в нейрохирургическом отделении профессора Марселя Давида. Часть этой работы появляется в книге «Психосоматическое исследование» [L'Investigation psychosomatique] (de MUzan, Marty, & David, 1963), которая с тех пор стала классикой. Именно в этих условиях был обнаружен и затем проанализирован оператуарный способ мышления (pensée opératoire). Несколько лет спустя команда доктора Немиа из Гарварда, который был проинформирован о наших исследованиях доктором Мертенсом де Вильмаром (Льеж), пересмотрел свои собственные наблюдения и, в свою очередь, признал феномен оператуарного мышления.
Я выделил несколько тем, первая из которых является напоминанием о фундаментальной специфике «системного Бессознательного». Чтобы избежать какой-либо неясности, я напомню о двух оппозициях, соответствующих двум основным фазам мысли Фрейда. Согласно первой, самосохранение/психосексуальность сопровождает топографическое отличие бессознательного, предсознательного и сознательного. Согласно второй, «инстинкт жизни/инстинкт смерти» сопровождает различие между Оно, Я и Сверх-Я. Эти две топографии и два инстинктивных влечения (Tribe) совершенно не пересекаются. Как заставить их сосуществовать? Я считаю, как и Франсис Паш, что Я, Оно и Сверх-Я можно рассматривать как персонажей, вовлеченных в сценарий, тогда как сознательное, предсознательное и бессознательное являются их режимами функционирования, другими словами, их мизансценами. Более того, нам пришлось бы снова согласиться с Пашем об использования термина «влечение» (pulsion) только как для «частичного» влечения (влечение познания и др.), в то время как термин «инстинкт» следует оставить для инстинкта жизни и инстинкт смерти (см. «основная генетическая программа» ниже). Подводя итог — гигиена мысли — со всем вкладом, сделанным основными метапсихологическими работами, необходимо оценить, могут ли они и в какой степени быть интегрированы с первой топографией, не оказывая отрицательного влияния, другими словами, с полным теоретическим зданием, о котором говорит Джонс.
Примером рассматриваемого вопроса, среди многих других, является принятие Мелани Кляйн в Международную психоаналитическую ассоциацию. Эдвард Гловер, книга о технике которого заслуживает самого пристального внимания, был против, и не без оснований. Эрнесту Джонсу, великому дипломату, удалось — возможно, к счастью — переломить ситуацию. Мелани Кляйн была принята в IPA. И все же ее взгляды — например, на развитие ребенка — были далеки от тех, которые можно вывести из работ Фрейда. Как, в самом деле, кляйнианская идея линейного развития различных стадий, проходящих в совершенной непрерывности от прегенитальной стадии к фаллической стадии — где она говорит о «раннем Эдиповом комплексе» — согласуется с фрейдовской точкой зрения, согласно которой эволюция происходит посредством мутаций, причем главная мутация связана с самим Эдиповым комплексом, когда все догенитальное прошлое «разрушается» и переписывается в терминах угроз кастрации и кастрационной тревоги (de M'Uzan, 1988)? То, что было пережито в архаической реальности, как таковое недоступно; действительно, то, с чем мы имеем дело, является тенденциозным и вводящим в заблуждение рассказом об этом. Таким образом, каждый аналитик должен занять свою собственную позицию, поскольку от неё в целом будет зависеть интерпретирующая активность.
Немецкое слово «Trieb» принято переводить на французский как «pulsion». Эта инициатива, выдвинутая лингвистической комиссией Парижского психоаналитического общества (SPP) в 1927 г., стала фактически результатом упорных переговоров: «Если вы дадите мне «pulsion» для «Trieb», я приму Ça (вместо soi [селф] для Es (Оно)». Дело не лишено значения, так как в немецком языке Trieb — популярный термин по сравнению с научным словом Instinkt, в то время как во французском языке верно обратное. Однако, и для того, чтобы быть точным, если «инстинкт» может в крайнем случае подходить для жизни или смерти, употребление слова «влечение» (pulsion) должно, напротив, чтобы быть легитимным, соответствовать метапсихологическим требованиям, описанным в работе «Влечения и их судьбы» (Фрейд, 1915) (источник, цель, давление, объект). «Влечение» касается только отношений с объектом и с нарциссическим психосексуальным порядком. Поэтому логически неприемлемо говорить о «влечении» к самосохранению и, тем более, о влечении к смерти*.
Настало время предложить стройную теоретическую/доктринальную систему знаний, которая чётко соединяет различные возникающие понятия. Это можно сделать в виде фабулы. В тот момент, когда мужские и женские гаметы встречаются друг с другом, запускается по существу генетическая программа, чтобы заранее организовать развитие и конечность бытия без какого-либо другого вмешательства, основанного на влечениях. Самосохранение определяет лишь одну из обязанностей, представленных в этой программе. Энергия, вовлеченная в это приключение, с самого начала не имеет качества; иными словами, она поставлена на службу функционированию организма, включая мозг. Часть этой энергии ожидает, чтобы ее «квалифицировали», то есть она предвосхищает приобретение либидинального статуса.
На траектории этой программы как бы предвидятся этапы, а также случайности (например, генетические болезни). Одним из самых важных этапов является появление эрогенных зон. Мы можем представить ситуацию с точки зрения модели «ячейки» как замка, ожидающего «вирусного ключа». Замок в программе (которую некоторые назвали бы самосохранением) готов стать настоящей эрогенной зоной благодаря вмешательству соблазнения младенца взрослым, чаще всего матерью. Решающая роль этого соблазнения была подробно изучена и описана Жаном Лапланшем (1987). Для него сообщение, адресованное взрослым, особенно в моменты заботы о младенце, заражается его бессознательным и оставляет остаток для интерпретации младенцем, на основании чего начнёт устанавливаться бессознательное последнего.
Хотя я безоговорочно признаю роль соблазнения младенца взрослым, как его описал и развил связанные с ним вопросы Жан Лапланш, меня в первую очередь интересует ответственность этого соблазнения в появлении, выделении и раскрытии эрогенных зон в генетической программе, где возникновение данного явления предвиделось. Как результат, то количество работы, которую деятельность эрогенных зон возлагает на психический аппарат, будет преобразовывать энергию «без качества» в то, что мы называем влечением, которое всегда сексуально. Как мы знаем, с экономической точки зрения Фрейд определял влечение как «раздражитель, мера рабочей̆ нагрузки, возложенной̆ на душевное вследствие его связи с телесным» (1915, с. 122). При этом энергия, изначально не имеющая качества, становится энергией либидинального влечения, оживляя существенные аспекты того, что разыгрывается в психосексуальном порядке, в то время как локус её катексиса идентифицирует ее либо как объектно-ориентированную, либо как нарциссическую. Конкретно, в повседневной практике мы в первую очередь имеем дело с клиническими картинами, в которых можем различить взаимодействия, «переговоры» между энергиями — без качества — функционирования и энергиями сексуальных либидинальных влечений. Таким образом, в психосоматической области есть органы, которые почти молчат, например, почки, в то время как другие, наделенные языком, могут быть очень психосексуально разговорчивыми, как, например, так называемая «раздраженная» толстая кишка. Наконец, чтобы еще больше прояснить ситуацию, есть основания полагать, что влечение является изобретением психического аппарата, который, как утверждал Фрейд, является вымыслом.
Это и есть теоретическая основа — фабула. Некоторые среди важных тем, которые должны найти свое метапсихологическое место в этом каркасе знаний, уже обсуждались, но к ним необходимо вернуться. Первое — это «оператуарное» мышление (pensée opératoire), поскольку его характеристики, на первый взгляд, не такова, чтобы мы могли признать его место в психосексуальном порядке, тогда как строго метапсихологический взгляд на явление предполагает нечто совершенно иное. Далее следует то, что я буду называть «проблематикой идентичности». В связи с этим предметом я сделаю несколько кратких замечаний о небредовых психозах; наконец, я напомню некоторые особенности психической работы, которую иногда приходится предпринимать тем, кто приближается к смерти.
Хотя оператуарное мышление чуждо психосексуальному функционированию и хотя, несмотря на это, мы метапсихологически возвращаемся к фундаментальной характеристике оператуарного феномена, т.е. гиперкатексису самых фактических аспектов реальности, есть основания предполагать, что восприятию реальности должна была угрожать крайняя опасность, а именно возникновение галлюцинаций. Такой силой обладает только архаичный механизм. Речь идет о фрейдовском «Verwerfung» (которое Лакан интерпретирует с помощью понятия «форклюзии»), «Verwerfung» или отказ от идеаторного содержания или означающего, которое может вновь появиться галлюцинаторно. Таким образом, оператуарное мышление является защитой от последствий психотической защиты (см. de M'Uzan, 1974b).
Точно так же, как с оператуарным мышлением, интерпретируемым метапсихологически, где я органично интегрировал соматический и психосексуальный порядки, я хотел бы пересмотреть «проблематику идентичности» субъекта. Это требует от меня обратить внимание на путаницу, из-за которой мы говорим о нарциссизме, связанном с судьбой либидо, а не об измерении идентичности, которое касается того, что я называю «vital-identital»* (или полем самосохранения). В работе «Торможение, симптом и тревога» (1926) Фрейд говорит об «органическом существе». Игнорирование этого различия может ввести нас в заблуждение, когда речь идет о границах между соответствующими областями и о влияющей на них естественной неопределенности.
Вот иллюстрация.
Когда, поднявшись с кушетки в конце сеанса, серьезно деперсонализированная пациентка сумела описать переполнявшие ее эмоции, я сказал ей «просто»: «Ваши контуры у меня в кармане», решив направить мою интервенции на границы ее бытия и тот факт, что они не были потеряны. Переживания жуткого (uncanniness) лучше всего выражают те моменты, в которые вовлечены и vital-identital, и психосексуальное, с неопределенными границами. Это дает психоанализу, наряду с биологией и даже математикой, право принадлежать к «научной области неопределенных границ» (см. de M'Uzan, 2009). Случайный характер границ, хотя и трудно определяемый, обычно считающихся хорошо установленными, понятен, когда возникает чрезвычайно серьезное осложнение, затрагивающее трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (ТСК), показанную иногда в случаях детской лейкемии (см. Ascher & toy, 2004). Вопреки наиболее частому осложнению, уже не субъект отторгает трансплантат, а трансплантат, став субъектом, отторгает субъекта, ставшего другим, чужаком, со смертельным исходом, при котором с ребенка «заживо сдирается кожа».
Если я позволю себе сейчас бросить беглый взгляд на небредовые психозы, то это потому, что рассмотрение нозографической точки зрения, основанной на особенностях психического функционирования, еще раз оправдывает желание включить в единый набор невротические, психотические и психосоматические патологии в целом. Изложение этих взглядов читатель найдет у де М'Юзана (2005a). Таким образом, в противовес классическому противопоставлению актуальных неврозов и психоневрозов я бы противопоставил актуальные психозы/парафрении и бред с воображением (imaginative delusions). В обоих случаях существенный контраст исходит от задействованной психической работы. Либо он носит «оператуарный» характер и симптом не имеет существенной ценности, либо он полностью ментализирован и симптом достаточно красноречив, чтобы описать сценарий. Читатель более или менее узнал в том, что я назвал «актуальными неврозами»*, «холодные психозы», описанные Эвелин Кестемберг (2001).
Читатель, быть может, удивится, увидев, что я заканчиваю свои замечания обращением к теме смерти или, точнее, к работе умирания*. Не секрет, что я уже несколько раз останавливался на этой теме (де М'Юзан, 1968, 1976а, 1981, 1996). Надеюсь, что это не будет воспринято как вопрос предпочтений. Это было делом случая, и мои первые публикации на эту тему, несомненно, натолкнули меня на консультации ряда людей, которые были проинформированы об их неизбежной и грядущей кончине. Проблема для некоторых из них явно заключалась в том, чтобы инициировать окончательную «работу» — слово произнесено, и это именно то, о чем идет речь — над собой. Но для поддержки моего решения вернуться к этому предмету в данной главе было необходимо нечто большее. Я ссылаюсь на первостепенную тему во всём, что я только что сказал, а именно природу рассматриваемой работы, состояние проблематики идентичности и место соблазнения.
Грубо говоря, среди лиц, приходивших ко мне в этом трагическом контексте, были и те, кто «не хотел умирать», и те, кто «хотел продолжать жить» — жить психически, т.е. используя все инструменты фантазматического функционирования, ментализации, которые всё еще были им доступны. На самом деле, по мере развития событий, присутствовали обе модальности, но с явным преобладанием той или другой вплоть до самого конца. Поэтому нет причин удивляться тому, что «у тех, кто не хочет умирать», развивается преимущественно «оператуарный» тип психического функционирования, тогда как у тех, у кого лучше сохранена способность фантазировать, мечтать, расплачиваются за это невротически. Разве не поразительно, что одна пациентка, которой сообщили, что она скоро умрет, ясно и недвусмысленно выразила желание разобраться с невротическими симптомами, которые лишь частично разрешились в ходе предшествующего анализа (de M'Uzan, 1981). )? Другой пациент за несколько часов до смерти размышлял вместе со мной о значении «памятного образа» ботинка с серебряной пряжкой.
То, что я собираюсь сказать, может показаться шокирующим из-за чувства беспокойства, вызванного обращением к соблазнению в самом анализе. Тем не менее, я должен заняться этим вопросом. Стоит отметить для начала, что сам факт обращения к другому лицу, в каком бы контексте (или почти) неминуемо включает в себя элемент соблазнения, и мне нет надобности напоминать вам о решающей роли соблазнения на первых этапах жизни младенцев; роль, которая не теряется с годами. Иногда это можно увидеть в экстремальных ситуациях, таких как те, о которых я только что говорил: приближение смерти. В качестве доказательства я приведу случай женщины, пораженной метастазами, которая, вообще говоря, мало была заинтересована в работе ментализации, но которая теперь стала весьма внимательна к тому, что могло держать человека в неведении относительно фатального исхода. И все же в определенные моменты, подобно тому, как в облачном небе могут внезапно появиться просветы, она позволила себе выразить что-то соблазнительное в фантазийной жизни, которая в противном случае была бы слишком ограниченной. Поэтому я решил воспользоваться этой ситуацией, приняв, после нарциссического подкрепления, определенную степень эротизации в этом взаимодействии. К сожалению, должен признать, что на этот раз инициатива, подкрепленная подлинным обязательством с моей стороны, потерпела неудачу, по крайней мере, частично: достаточно скоро суровая реальность во всей своей бесплодности сориентировала медицинский подход к решению постепенно «погрузить её в сон».
Я хотел бы завершить эти строки обращением к личному воспоминанию, старому воспоминанию, чуждому психоаналитическому миру, но часто возвращающемуся ко мне. Это память о молодой женщине, подруге, которая скончалась от метастатического рака молочной железы. Она была журналисткой и писательницей из восточноевропейской страны, едва избежавшей участи, которую нетрудно представить. Я оставлю в стороне свою роль в открытии и лечении первой опухоли, чтобы сосредоточиться на том, что конкретно касается моего предмета. При том, что болезнь была уже в очень запущенной стадии и моя подруга не знала о неизбежном летальном исходе, она познакомилась с хирургом, который не имел никакого отношения к лечившей её терапевтической и хирургической бригаде. Довольно любопытно, что я смог вспомнить диссертацию этого хирурга («Нетуберкулезный гнойный плеврит»), которую я читал и восхищался во время обучению медицине, будучи впечатлен умом и чувствительностью, которые она раскрывала. И именно он, как ни странно, должен был сообщить моей подруге о серьезности ее состояния и о его скором исходе. Что ещё более странно, так это то, что, ко всеобщему удивлению, между ними сложились искренние любовные отношения, эмоциональные и сексуальные. Поначалу заинтригованный, я вскоре понял, что человек, чувствительный к мощному обаянию молодой женщины и искренне влюбленный, с необычайной интуицией, понял, что в его силах «сойти с троп разума», трансформирую органическую драму в ситуацию, при которой психосексуальность бесконечно сохраняет свое место.
Молодая женщина должна была дать окончательную иллюстрацию всего этого богатства. За несколько дней до смерти была опубликована её последняя книга, но, все еще желая обеспечить её продвижение, она была доставлена скорой помощью к своему издателю. Один из врачей отделения, куда она была госпитализирована, сопровождал ее вместе с двумя медсестрами, все они дрожали при мысли о том, что может случиться. А в одном из салонов, превращенных в студию, под лучами прожекторов и среди всех журналистов можно было увидеть мою подругу, сияющую, элегантно одетую, блестящую и все ещё соблазнительную, покоряющую всех присутствующих.
На самом деле можно выявить серьезные неточности и противоречия не только внутри двух топографий и двух теорий «инстинктов», но также и, прежде всего, между двумя стадиями фрейдовского здания. Поэтому было неизбежно, что однажды возникнет беспокойство о согласованности, даже если мы долгое время, слишком долгое время, приспосабливались к ситуации. Эта забота о связности породила настоятельную необходимость в уточнении, рискуя стать излишней смелостью, достаточно упорядоченного «теоретического здания». Позвольте мне объяснить. Рассмотрим, например, ситуацию, связанную со знаменитым влечением к смерти. Разве не удивительно, что Фрейд (1920) в работе «По ту сторону принципа удовольствия» (глава 6, первый абзац) ставит смерть на сторону самосохранения, только ради того, чтобы сразу же после этого отказаться от этой гипотезы, выдвинув вторую теорию влечений, о которой он говорит (все в той же главе), что не уверен, что сам в неё верит? Возможно, и еще более серьезным, если можно так выразиться, является удар, нанесенный второй структурной теорией психического аппарата (Я, Оно, Сверх-Я) открытию одного из самых невероятных находок в истории мысли: признание Бессознательного, системного Бессознательного, со всеми его отличительными элементами (отсутствие понятия о прошлом, нерепрезентированность смерти и т. д.). Как мы знаем, это было открытие, по важности равное двум другим нарциссическим ранам, нанесенным человечеству сначала Коперником, а затем Дарвином (см. Freud, 1917). Это открытие было плохо воспринято даже аналитиками, о чем свидетельствует использование этого понятия системного Бессознательного во второй топографии, где Бессознательное - не переставая существовать? - становится качеством, которое можно распознать как в Я, так и в Сверх-Я и Оно. Такая эволюция дает пищу для размышлений, и это возможность вспомнить вместе с Эрнестом Джонсом, что, если бы Фрейд умер сразу после написания великих метапсихологических статей 1915 года, у нас была бы полная картина психоанализа в его классической форме. Таким образом, когда теория доказала свою ценность, открытия, которые следуют за ней, не могут заменить собой или даже просто добавиться к первой системе взглядом. Поэтому прежде чем поддерживать их, необходимо оценить, насколько они могут быть «органически» интегрированы с первой теоретической конструкцией. Психосоматическая медицина является хорошей иллюстрацией этого и даже может служить призывом к порядку. Психоаналитиков, которые очень хорошо относятся к топографической и динамической точкам зрения, гораздо больше смущает экономическая точка зрения, то есть тот факт, что количество может быть знаком судьбы; хотя количество, как скажут, легче произвести, чем измерить. Психоаналитическая психосоматическая медицина, правда, декларирует общую цель, группирую соматозы, психоневрозы и даже психозы как части одного порядка. Такой подход должен помочь избежать ошибки отнесения того или иного пациента к той нозографической категории, к которой он не принадлежит.
В качестве примера я хотел бы привести два старых и сопоставимых случая. Однажды по одной и той же причине со мной связались два ментора, которых сейчас уже нет в живых. Оба они знали о моем интересе к психосоматике. Два этих прекрасных клинициста диагностировали невроз навязчивых состояний у своих пациентов, поскольку присутствовали все семиологические элементы. Одновременно заинтригованные и огорченные, оба они наблюдали у своих пациентов начало очень серьезного приступа язвенного геморрагического колита, один из пациентов приближался к концу своего анализа, а другой находился в середине анализа. Что произошло? Я мог только предполагать, что часть экономики этих пациентов ускользнула от их внимания. Действительно, все, что относилось к обсессивному невротическому регистру, было проработано и проанализировано, но потребовалось лишь событие экономического порядка (вероятно, интервенция), чтобы сокрушить адаптивные способности обсессивной системы, которая рухнула, как карточный домик, и вся эта экономика переместилась куда-то ещё. Я мог бы, как и другие, вспомнить множество подобных ситуаций. Такие просчеты требуют размышлений и лежат в основе понятия психоаналитической психосоматики, призванной объединять две вселенные. Следовательно, потребовался не один день, чтобы достичь точки, в которой можно было установить достаточно последовательную объединяющую теоретическую концепцию. Это ни в коем случае не недавние искания, потому что я обнаружил их следы, относящиеся к 1969 году, в докладе, который я сделал на коллоквиуме Парижского психоаналитического общества, посвященном навязчивому повторению. Связь между этим понятием и влечением к смерти* кажется самоочевидной. Я оставался в смятении, не решаясь проследить за этим движением, во-первых, потому, что моя клиническая практика регулярно сталкивала меня с феноменом повторения, понимание которого никоим образом не требовало обращения к роли определенного влечения (так называемое влечение к смерти); а во-вторых, потому, что я предпочел указать на клинически идентифицируемое противопоставление между явлениями «повторения идентичного»* и теми, где повторение аппроксимативно — повторение сходного* (см. «сходное» и «идентичное» в словаре) — оппозицию, которую можно найти в словаре. Поэтому я оставил вопрос о влечении к смерти для других случаев, проявив, таким образом, осторожность — фактически элементарную осторожность, которая позволяет в более поздних работах не оставаться пленником первоначальных позиций. Поэтому в то время было необходимо оставить место для критического осмысления; другими словами, заняться некоторым размышлением, а затем начать накапливать наблюдения с целью подвергнуть их тщательному и внимательному рассмотрению. Так было, когда в течение нескольких лет Пьер Марти, Кристиан Давид и я неделю за неделей анализировали записи первичных интервью с предсказуемо «психосоматическими» пациентами в нейрохирургическом отделении профессора Марселя Давида. Часть этой работы появляется в книге «Психосоматическое исследование» [L'Investigation psychosomatique] (de MUzan, Marty, & David, 1963), которая с тех пор стала классикой. Именно в этих условиях был обнаружен и затем проанализирован оператуарный способ мышления (pensée opératoire). Несколько лет спустя команда доктора Немиа из Гарварда, который был проинформирован о наших исследованиях доктором Мертенсом де Вильмаром (Льеж), пересмотрел свои собственные наблюдения и, в свою очередь, признал феномен оператуарного мышления.
Я выделил несколько тем, первая из которых является напоминанием о фундаментальной специфике «системного Бессознательного». Чтобы избежать какой-либо неясности, я напомню о двух оппозициях, соответствующих двум основным фазам мысли Фрейда. Согласно первой, самосохранение/психосексуальность сопровождает топографическое отличие бессознательного, предсознательного и сознательного. Согласно второй, «инстинкт жизни/инстинкт смерти» сопровождает различие между Оно, Я и Сверх-Я. Эти две топографии и два инстинктивных влечения (Tribe) совершенно не пересекаются. Как заставить их сосуществовать? Я считаю, как и Франсис Паш, что Я, Оно и Сверх-Я можно рассматривать как персонажей, вовлеченных в сценарий, тогда как сознательное, предсознательное и бессознательное являются их режимами функционирования, другими словами, их мизансценами. Более того, нам пришлось бы снова согласиться с Пашем об использования термина «влечение» (pulsion) только как для «частичного» влечения (влечение познания и др.), в то время как термин «инстинкт» следует оставить для инстинкта жизни и инстинкт смерти (см. «основная генетическая программа» ниже). Подводя итог — гигиена мысли — со всем вкладом, сделанным основными метапсихологическими работами, необходимо оценить, могут ли они и в какой степени быть интегрированы с первой топографией, не оказывая отрицательного влияния, другими словами, с полным теоретическим зданием, о котором говорит Джонс.
Примером рассматриваемого вопроса, среди многих других, является принятие Мелани Кляйн в Международную психоаналитическую ассоциацию. Эдвард Гловер, книга о технике которого заслуживает самого пристального внимания, был против, и не без оснований. Эрнесту Джонсу, великому дипломату, удалось — возможно, к счастью — переломить ситуацию. Мелани Кляйн была принята в IPA. И все же ее взгляды — например, на развитие ребенка — были далеки от тех, которые можно вывести из работ Фрейда. Как, в самом деле, кляйнианская идея линейного развития различных стадий, проходящих в совершенной непрерывности от прегенитальной стадии к фаллической стадии — где она говорит о «раннем Эдиповом комплексе» — согласуется с фрейдовской точкой зрения, согласно которой эволюция происходит посредством мутаций, причем главная мутация связана с самим Эдиповым комплексом, когда все догенитальное прошлое «разрушается» и переписывается в терминах угроз кастрации и кастрационной тревоги (de M'Uzan, 1988)? То, что было пережито в архаической реальности, как таковое недоступно; действительно, то, с чем мы имеем дело, является тенденциозным и вводящим в заблуждение рассказом об этом. Таким образом, каждый аналитик должен занять свою собственную позицию, поскольку от неё в целом будет зависеть интерпретирующая активность.
Немецкое слово «Trieb» принято переводить на французский как «pulsion». Эта инициатива, выдвинутая лингвистической комиссией Парижского психоаналитического общества (SPP) в 1927 г., стала фактически результатом упорных переговоров: «Если вы дадите мне «pulsion» для «Trieb», я приму Ça (вместо soi [селф] для Es (Оно)». Дело не лишено значения, так как в немецком языке Trieb — популярный термин по сравнению с научным словом Instinkt, в то время как во французском языке верно обратное. Однако, и для того, чтобы быть точным, если «инстинкт» может в крайнем случае подходить для жизни или смерти, употребление слова «влечение» (pulsion) должно, напротив, чтобы быть легитимным, соответствовать метапсихологическим требованиям, описанным в работе «Влечения и их судьбы» (Фрейд, 1915) (источник, цель, давление, объект). «Влечение» касается только отношений с объектом и с нарциссическим психосексуальным порядком. Поэтому логически неприемлемо говорить о «влечении» к самосохранению и, тем более, о влечении к смерти*.
Настало время предложить стройную теоретическую/доктринальную систему знаний, которая чётко соединяет различные возникающие понятия. Это можно сделать в виде фабулы. В тот момент, когда мужские и женские гаметы встречаются друг с другом, запускается по существу генетическая программа, чтобы заранее организовать развитие и конечность бытия без какого-либо другого вмешательства, основанного на влечениях. Самосохранение определяет лишь одну из обязанностей, представленных в этой программе. Энергия, вовлеченная в это приключение, с самого начала не имеет качества; иными словами, она поставлена на службу функционированию организма, включая мозг. Часть этой энергии ожидает, чтобы ее «квалифицировали», то есть она предвосхищает приобретение либидинального статуса.
На траектории этой программы как бы предвидятся этапы, а также случайности (например, генетические болезни). Одним из самых важных этапов является появление эрогенных зон. Мы можем представить ситуацию с точки зрения модели «ячейки» как замка, ожидающего «вирусного ключа». Замок в программе (которую некоторые назвали бы самосохранением) готов стать настоящей эрогенной зоной благодаря вмешательству соблазнения младенца взрослым, чаще всего матерью. Решающая роль этого соблазнения была подробно изучена и описана Жаном Лапланшем (1987). Для него сообщение, адресованное взрослым, особенно в моменты заботы о младенце, заражается его бессознательным и оставляет остаток для интерпретации младенцем, на основании чего начнёт устанавливаться бессознательное последнего.
Хотя я безоговорочно признаю роль соблазнения младенца взрослым, как его описал и развил связанные с ним вопросы Жан Лапланш, меня в первую очередь интересует ответственность этого соблазнения в появлении, выделении и раскрытии эрогенных зон в генетической программе, где возникновение данного явления предвиделось. Как результат, то количество работы, которую деятельность эрогенных зон возлагает на психический аппарат, будет преобразовывать энергию «без качества» в то, что мы называем влечением, которое всегда сексуально. Как мы знаем, с экономической точки зрения Фрейд определял влечение как «раздражитель, мера рабочей̆ нагрузки, возложенной̆ на душевное вследствие его связи с телесным» (1915, с. 122). При этом энергия, изначально не имеющая качества, становится энергией либидинального влечения, оживляя существенные аспекты того, что разыгрывается в психосексуальном порядке, в то время как локус её катексиса идентифицирует ее либо как объектно-ориентированную, либо как нарциссическую. Конкретно, в повседневной практике мы в первую очередь имеем дело с клиническими картинами, в которых можем различить взаимодействия, «переговоры» между энергиями — без качества — функционирования и энергиями сексуальных либидинальных влечений. Таким образом, в психосоматической области есть органы, которые почти молчат, например, почки, в то время как другие, наделенные языком, могут быть очень психосексуально разговорчивыми, как, например, так называемая «раздраженная» толстая кишка. Наконец, чтобы еще больше прояснить ситуацию, есть основания полагать, что влечение является изобретением психического аппарата, который, как утверждал Фрейд, является вымыслом.
Это и есть теоретическая основа — фабула. Некоторые среди важных тем, которые должны найти свое метапсихологическое место в этом каркасе знаний, уже обсуждались, но к ним необходимо вернуться. Первое — это «оператуарное» мышление (pensée opératoire), поскольку его характеристики, на первый взгляд, не такова, чтобы мы могли признать его место в психосексуальном порядке, тогда как строго метапсихологический взгляд на явление предполагает нечто совершенно иное. Далее следует то, что я буду называть «проблематикой идентичности». В связи с этим предметом я сделаю несколько кратких замечаний о небредовых психозах; наконец, я напомню некоторые особенности психической работы, которую иногда приходится предпринимать тем, кто приближается к смерти.
Хотя оператуарное мышление чуждо психосексуальному функционированию и хотя, несмотря на это, мы метапсихологически возвращаемся к фундаментальной характеристике оператуарного феномена, т.е. гиперкатексису самых фактических аспектов реальности, есть основания предполагать, что восприятию реальности должна была угрожать крайняя опасность, а именно возникновение галлюцинаций. Такой силой обладает только архаичный механизм. Речь идет о фрейдовском «Verwerfung» (которое Лакан интерпретирует с помощью понятия «форклюзии»), «Verwerfung» или отказ от идеаторного содержания или означающего, которое может вновь появиться галлюцинаторно. Таким образом, оператуарное мышление является защитой от последствий психотической защиты (см. de M'Uzan, 1974b).
Точно так же, как с оператуарным мышлением, интерпретируемым метапсихологически, где я органично интегрировал соматический и психосексуальный порядки, я хотел бы пересмотреть «проблематику идентичности» субъекта. Это требует от меня обратить внимание на путаницу, из-за которой мы говорим о нарциссизме, связанном с судьбой либидо, а не об измерении идентичности, которое касается того, что я называю «vital-identital»* (или полем самосохранения). В работе «Торможение, симптом и тревога» (1926) Фрейд говорит об «органическом существе». Игнорирование этого различия может ввести нас в заблуждение, когда речь идет о границах между соответствующими областями и о влияющей на них естественной неопределенности.
Вот иллюстрация.
Когда, поднявшись с кушетки в конце сеанса, серьезно деперсонализированная пациентка сумела описать переполнявшие ее эмоции, я сказал ей «просто»: «Ваши контуры у меня в кармане», решив направить мою интервенции на границы ее бытия и тот факт, что они не были потеряны. Переживания жуткого (uncanniness) лучше всего выражают те моменты, в которые вовлечены и vital-identital, и психосексуальное, с неопределенными границами. Это дает психоанализу, наряду с биологией и даже математикой, право принадлежать к «научной области неопределенных границ» (см. de M'Uzan, 2009). Случайный характер границ, хотя и трудно определяемый, обычно считающихся хорошо установленными, понятен, когда возникает чрезвычайно серьезное осложнение, затрагивающее трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (ТСК), показанную иногда в случаях детской лейкемии (см. Ascher & toy, 2004). Вопреки наиболее частому осложнению, уже не субъект отторгает трансплантат, а трансплантат, став субъектом, отторгает субъекта, ставшего другим, чужаком, со смертельным исходом, при котором с ребенка «заживо сдирается кожа».
Если я позволю себе сейчас бросить беглый взгляд на небредовые психозы, то это потому, что рассмотрение нозографической точки зрения, основанной на особенностях психического функционирования, еще раз оправдывает желание включить в единый набор невротические, психотические и психосоматические патологии в целом. Изложение этих взглядов читатель найдет у де М'Юзана (2005a). Таким образом, в противовес классическому противопоставлению актуальных неврозов и психоневрозов я бы противопоставил актуальные психозы/парафрении и бред с воображением (imaginative delusions). В обоих случаях существенный контраст исходит от задействованной психической работы. Либо он носит «оператуарный» характер и симптом не имеет существенной ценности, либо он полностью ментализирован и симптом достаточно красноречив, чтобы описать сценарий. Читатель более или менее узнал в том, что я назвал «актуальными неврозами»*, «холодные психозы», описанные Эвелин Кестемберг (2001).
Читатель, быть может, удивится, увидев, что я заканчиваю свои замечания обращением к теме смерти или, точнее, к работе умирания*. Не секрет, что я уже несколько раз останавливался на этой теме (де М'Юзан, 1968, 1976а, 1981, 1996). Надеюсь, что это не будет воспринято как вопрос предпочтений. Это было делом случая, и мои первые публикации на эту тему, несомненно, натолкнули меня на консультации ряда людей, которые были проинформированы об их неизбежной и грядущей кончине. Проблема для некоторых из них явно заключалась в том, чтобы инициировать окончательную «работу» — слово произнесено, и это именно то, о чем идет речь — над собой. Но для поддержки моего решения вернуться к этому предмету в данной главе было необходимо нечто большее. Я ссылаюсь на первостепенную тему во всём, что я только что сказал, а именно природу рассматриваемой работы, состояние проблематики идентичности и место соблазнения.
Грубо говоря, среди лиц, приходивших ко мне в этом трагическом контексте, были и те, кто «не хотел умирать», и те, кто «хотел продолжать жить» — жить психически, т.е. используя все инструменты фантазматического функционирования, ментализации, которые всё еще были им доступны. На самом деле, по мере развития событий, присутствовали обе модальности, но с явным преобладанием той или другой вплоть до самого конца. Поэтому нет причин удивляться тому, что «у тех, кто не хочет умирать», развивается преимущественно «оператуарный» тип психического функционирования, тогда как у тех, у кого лучше сохранена способность фантазировать, мечтать, расплачиваются за это невротически. Разве не поразительно, что одна пациентка, которой сообщили, что она скоро умрет, ясно и недвусмысленно выразила желание разобраться с невротическими симптомами, которые лишь частично разрешились в ходе предшествующего анализа (de M'Uzan, 1981). )? Другой пациент за несколько часов до смерти размышлял вместе со мной о значении «памятного образа» ботинка с серебряной пряжкой.
То, что я собираюсь сказать, может показаться шокирующим из-за чувства беспокойства, вызванного обращением к соблазнению в самом анализе. Тем не менее, я должен заняться этим вопросом. Стоит отметить для начала, что сам факт обращения к другому лицу, в каком бы контексте (или почти) неминуемо включает в себя элемент соблазнения, и мне нет надобности напоминать вам о решающей роли соблазнения на первых этапах жизни младенцев; роль, которая не теряется с годами. Иногда это можно увидеть в экстремальных ситуациях, таких как те, о которых я только что говорил: приближение смерти. В качестве доказательства я приведу случай женщины, пораженной метастазами, которая, вообще говоря, мало была заинтересована в работе ментализации, но которая теперь стала весьма внимательна к тому, что могло держать человека в неведении относительно фатального исхода. И все же в определенные моменты, подобно тому, как в облачном небе могут внезапно появиться просветы, она позволила себе выразить что-то соблазнительное в фантазийной жизни, которая в противном случае была бы слишком ограниченной. Поэтому я решил воспользоваться этой ситуацией, приняв, после нарциссического подкрепления, определенную степень эротизации в этом взаимодействии. К сожалению, должен признать, что на этот раз инициатива, подкрепленная подлинным обязательством с моей стороны, потерпела неудачу, по крайней мере, частично: достаточно скоро суровая реальность во всей своей бесплодности сориентировала медицинский подход к решению постепенно «погрузить её в сон».
Я хотел бы завершить эти строки обращением к личному воспоминанию, старому воспоминанию, чуждому психоаналитическому миру, но часто возвращающемуся ко мне. Это память о молодой женщине, подруге, которая скончалась от метастатического рака молочной железы. Она была журналисткой и писательницей из восточноевропейской страны, едва избежавшей участи, которую нетрудно представить. Я оставлю в стороне свою роль в открытии и лечении первой опухоли, чтобы сосредоточиться на том, что конкретно касается моего предмета. При том, что болезнь была уже в очень запущенной стадии и моя подруга не знала о неизбежном летальном исходе, она познакомилась с хирургом, который не имел никакого отношения к лечившей её терапевтической и хирургической бригаде. Довольно любопытно, что я смог вспомнить диссертацию этого хирурга («Нетуберкулезный гнойный плеврит»), которую я читал и восхищался во время обучению медицине, будучи впечатлен умом и чувствительностью, которые она раскрывала. И именно он, как ни странно, должен был сообщить моей подруге о серьезности ее состояния и о его скором исходе. Что ещё более странно, так это то, что, ко всеобщему удивлению, между ними сложились искренние любовные отношения, эмоциональные и сексуальные. Поначалу заинтригованный, я вскоре понял, что человек, чувствительный к мощному обаянию молодой женщины и искренне влюбленный, с необычайной интуицией, понял, что в его силах «сойти с троп разума», трансформирую органическую драму в ситуацию, при которой психосексуальность бесконечно сохраняет свое место.
Молодая женщина должна была дать окончательную иллюстрацию всего этого богатства. За несколько дней до смерти была опубликована её последняя книга, но, все еще желая обеспечить её продвижение, она была доставлена скорой помощью к своему издателю. Один из врачей отделения, куда она была госпитализирована, сопровождал ее вместе с двумя медсестрами, все они дрожали при мысли о том, что может случиться. А в одном из салонов, превращенных в студию, под лучами прожекторов и среди всех журналистов можно было увидеть мою подругу, сияющую, элегантно одетую, блестящую и все ещё соблазнительную, покоряющую всех присутствующих.
Из словаря понятий:
Vital-identital - это фундаментальная концепция теории де М'Юзана и, действительно, это один из его революционных вкладов. Она соответствует порядку идентичности, который контрастирует с функционированием сексуального влечения (связанного с объектами и нарциссизмом). Относительно этого порядка можно было бы легко говорить о реальной программе жизни и, следовательно, о смерти в конце. Его частью является классическое понятие самосохранения. Ментализация недостаточна вдоль этой оси идентичности. «Невротическое» измерение не задействовано. Следовательно, мы оказываемся в центре актуальных неврозов, равно как и актуальных психозов. Термин влечение не занимает своего места в этом порядке. Проведя четкое различие между порядком «vital-identital» и порядком психосексуальности, де М'Юзан объясняет, как аналитик должен знать как прибегнуть к переговорам* между этими двумя осями таким образом, чтобы помочь пациенту найти свой путь назад к психосексуальному порядку и избегая соматозов или актуальных неврозов, или даже актуальных психозов. Де М'Юзан создал неологизм «vital-identital», во-первых, как отголосок понятия сексуального, разработанного Жаном Лапланшем, чьи взгляды на этот предмет он разделяет, и, во-вторых, чтобы отличить его от понятия идентичности, относящегося к философская область. (См. Aux confins de l'identité [2005a] и «Reconsiderations and New developments in Psychoanalysis» [2011, p. 24ff.; 201 3b, p. 192ff.]; см. также Gagnebin & Milly [2012, p. 182]. )
Заметки
1. Эта глава впервый появилась в 2008 году как статья в Bulletin du groupe méditerranéen de la Société Psychanalytique de Paris, 17, pp. 9-17.
2. Второе и третье издание от 1994 и 2015 г. включено в дополнительный текст David and de M'Uzan "Préliminaires critiques à la recherche psychosomatique".
3. Примечание переводчика: «Влечения и их судьбы».
Vital-identital - это фундаментальная концепция теории де М'Юзана и, действительно, это один из его революционных вкладов. Она соответствует порядку идентичности, который контрастирует с функционированием сексуального влечения (связанного с объектами и нарциссизмом). Относительно этого порядка можно было бы легко говорить о реальной программе жизни и, следовательно, о смерти в конце. Его частью является классическое понятие самосохранения. Ментализация недостаточна вдоль этой оси идентичности. «Невротическое» измерение не задействовано. Следовательно, мы оказываемся в центре актуальных неврозов, равно как и актуальных психозов. Термин влечение не занимает своего места в этом порядке. Проведя четкое различие между порядком «vital-identital» и порядком психосексуальности, де М'Юзан объясняет, как аналитик должен знать как прибегнуть к переговорам* между этими двумя осями таким образом, чтобы помочь пациенту найти свой путь назад к психосексуальному порядку и избегая соматозов или актуальных неврозов, или даже актуальных психозов. Де М'Юзан создал неологизм «vital-identital», во-первых, как отголосок понятия сексуального, разработанного Жаном Лапланшем, чьи взгляды на этот предмет он разделяет, и, во-вторых, чтобы отличить его от понятия идентичности, относящегося к философская область. (См. Aux confins de l'identité [2005a] и «Reconsiderations and New developments in Psychoanalysis» [2011, p. 24ff.; 201 3b, p. 192ff.]; см. также Gagnebin & Milly [2012, p. 182]. )
Заметки
1. Эта глава впервый появилась в 2008 году как статья в Bulletin du groupe méditerranéen de la Société Psychanalytique de Paris, 17, pp. 9-17.
2. Второе и третье издание от 1994 и 2015 г. включено в дополнительный текст David and de M'Uzan "Préliminaires critiques à la recherche psychosomatique".
3. Примечание переводчика: «Влечения и их судьбы».
Перевод с английского Титов М.Д. (2023)