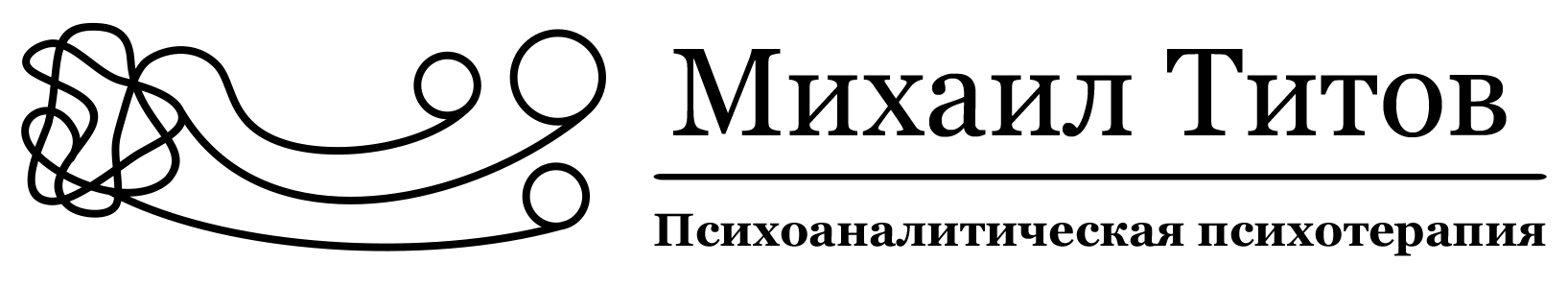ДЖИЛЛ ЧОДЕР-ГОЛДМАН, LCSW
Разговор с Антонино Ферро
Psychoanalytic Perspectives, 13: 129–143 (2015)
Доктор Ферро был приглашенным профессором психоанализа в различных учреждениях Европы, Северной Америки, Южной Америки и Австралии.
В 2007 году он получил премию Мэри С. Сигурни (Sigourney Award). Он автор книг, переведенных на многие языки, последние из них опубликованы Routledge: «Mind Works», «Avoiding Emotions, Living Emotions», «Supervision in Psychoanalysis: The Sao Paulo Seminar».
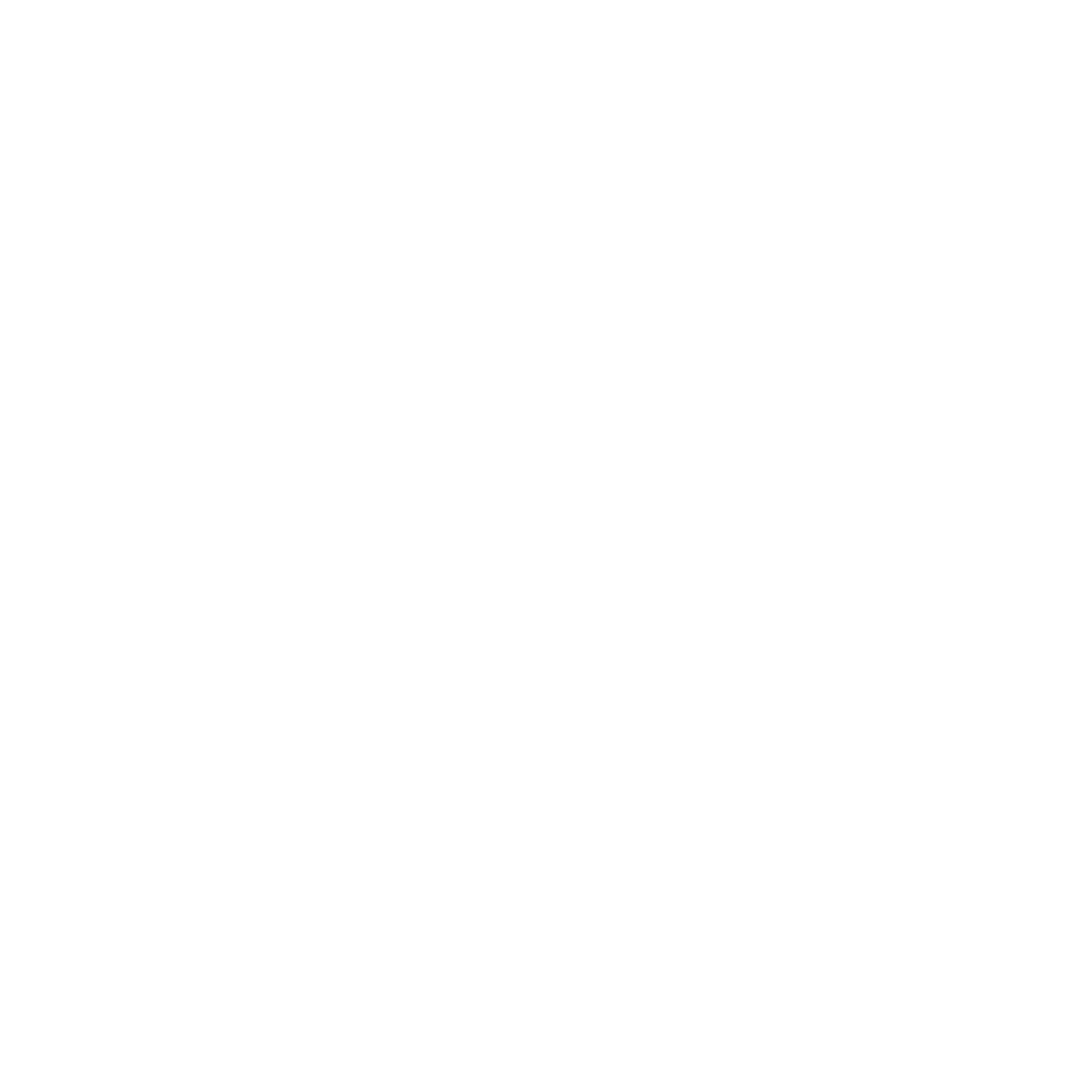
Имеет частную практику в Нью-Йорке, где работает индивидуально, с парами и группами, а в настоящее время является клиническим руководителем и консультантом NIPTI. Она также посвящает часть своей практики искусству, сделав успешную карьеру исполнителя в течение 30 лет.
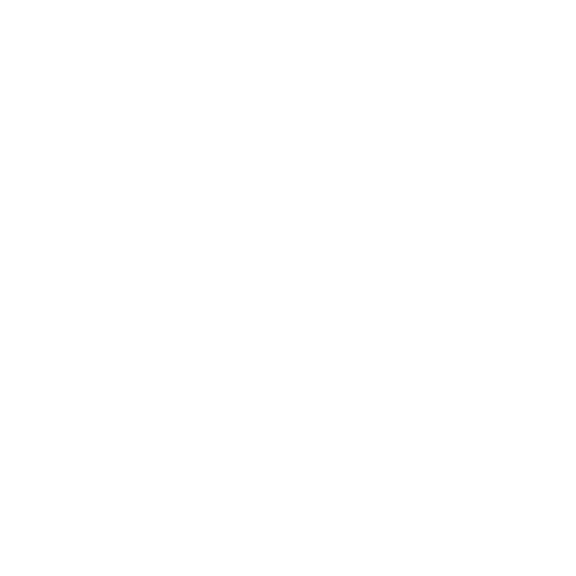
Я сидела в кафе и потягивала эспрессо, готовясь к интервью с доктором Антонино Ферро, когда вошел джентльмен. Мы сразу же узнали друг друга, и, увидев его улыбку и блеск в глазах, я поняла, что этот будет чудесный опыт. Мы вместе выпили эспрессо, немного посмеялись и направились наверх в офис, который он использует в Милане, когда не преподает в Павии, в Италии, где он также проживает.
Мы устроились с Антонино Ферро в его солнечном кабинете. На протяжении всего интервью он держал перед собой карандаш и стопку простой бумаги, на которой он рисовал, рассказывая о своих различных концепциях психоанализа: об игре здесь и сейчас, кулинарии и персонажах, которые входят в анализ. Я сожалею только о том, что мы не сняли интервью, потому что знать доктора Ферро означает видеть его радость и любопытство, когда он общается с другими, щедро делясь своими мыслями и идеями.
Мы устроились с Антонино Ферро в его солнечном кабинете. На протяжении всего интервью он держал перед собой карандаш и стопку простой бумаги, на которой он рисовал, рассказывая о своих различных концепциях психоанализа: об игре здесь и сейчас, кулинарии и персонажах, которые входят в анализ. Я сожалею только о том, что мы не сняли интервью, потому что знать доктора Ферро означает видеть его радость и любопытство, когда он общается с другими, щедро делясь своими мыслями и идеями.
ДЧГ: Вы родились в Италии, в Палермо, в 1947 году. Каково было расти там?
АФ: Да, я родился в Палермо, в этом очаровательном городе. Я его обожаю, также обожаю то, что я сицилиец. У Палермо нет особенных характеристик в том смысле, что Палермо — большой город, очаровательный город, наверное, с разными культурами, которые пересекаются друг с другом. Это очень открытый город, хотя Палермо и Сицилия в каком-то смысле связаны с идеей мафии, по крайней мере, в СМИ.
ДЧГ: С мафией?
АФ: Да, но в обычной жизни, если у вас нет производства, связанного с мафией, вам никогда не придется иметь с ней дело.
ДЧГ: Итак, когда Вы приехали на север, в Милан и Павию?
АФ: Я закончил обучение медицине в Палермо, а затем переехал в Павию по многим причинам. Когда я решил специализироваться на психиатрии, я очень хотел курс, ориентированный на психодинамику, и в то время единственным местом, где это было возможно, была психиатрическая клиника Павии. Кроме того, когда я связался с аналитиком, с которым надеялся начать свой личный психоанализ, то узнал, что он переезжает в Милан, который, как вы знаете, находится недалеко от Павии. В детстве я был очарован яркими рассказами моего отца о годах, проведенных в Павии, он описывал его как «город, окутанный туманом». Примерно в то же время я познакомился со своей будущей женой, которая жила на севере Италии и тоже собиралась переехать в Милан. Так что все это способствовало моему решению переехать из Палермо в Павию.
ДЧГ: Где Вы получили степень в медицине, хирургии и психиатрия. Повлияла ли семьи на этот путь?
АФ: Мой отец был кардиохирургом, он прошёл специализацию в Павии. В детстве меня увлекала работа моего отца. Из-за этого увлечения я ассистировал ему в операционной, когда мне было лет 8 или 9 лет.
ДЧГ: Ух ты, в 8 лет в операционной? Говорили «передайте мне скальпель»?
АФ: [Смеется] Да, в своём белом халате. Возможно, немного садистски! Я много лет думал, что выберу карьеру хирурга, как мой отец, но передумал и вместо этого стал изучать психиатрию.
ДЧГ: Значит, у Вас действительно есть степени в области медицины, хирургии и психиатрии?
АФ: В Италии они всегда связаны. У всех есть дипломы в области медицины и хирургии, а потом я ещё получил диплом психиатра.
ДЧГ: Изначально Вы были заинтересован в детской нейропсихиатрии. Расскажите об этом.
АФ: На самом деле, большая часть моей ранней работы была связана с детьми. В то время я специализировалась на взрослой психиатрии и больше был знаком с работой со взрослыми пациентами, поэтому поначалу меня немного пугало отсутствие у меня опыта работы с детьми, испытывающими психологические проблемы. Так я начал работать с группами учителей, а затем и с родителями. Когда я почувствовал себя готовым, начал работать с подростками и, наконец, с юными детьми, только чтобы обнаружить, что это легче, чем я представлял. Возможно, мой подход к работе с детьми шел рука об руку с моим личным анализом, который помог мне преодолеть страх перед встречей с «ребенком» или, как оказалось, «детьми» во мне!
ДЧГ: А теперь вы все еще работаете с детьми в своей практике?
АФ: Да, но в настоящее время я работаю со взрослыми и маленькими детьми трёх-четырёх лет.
ДЧГ: Что предпочитаете?
АФ: Думаю, что разум всегда одинаков. Между детским и взрослым анализом не так много различий.
ДЧГ: Правда? Расскажите об этом!
АФ: В сущности, я не думаю, что есть какие-то большие различия в том смысле, что психическое функционирование взрослых и детей очень похоже. Что отличается, так это язык, который дети используют для самовыражения, под которым я подразумеваю то, как они будут это делать через игры, рисование и движения — методы, о которых взрослые пациенты могут не подозревать, что они могут их использовать (возможно, к счастью!). То, что я только что сказал, справедливо и в том случае, если мы не будем рассматривать строгие или ригидные фазы психического развития, предложенные моделью Фрейда, а вместо этого рассмотрим модель психического функционирования Биона и идеи тех, кто продолжал развивать его мысли.
ДЧГ: В Соединенных Штатах есть разделение в тренинге. Вы обучаетесь либо детскому психоанализу, либо взрослому.
АФ: В Италии тоже обучение разделено. Но я думаю, что, например, с детьми можно играть в игрушки и так далее, а со взрослыми можно играть словами. У нас есть каракули Винникотта для детей, но вы также можете иметь что-то подобное с голосом у взрослых. Это то что объединяет - дискурс игры.
ДЧГ: Ваше психоаналитическое обучение проходило в Милане, верно? В то время в Италии было много кляйнианцев. Обучал ли Вас кто-нибудь из них?
АФ: Вы правы, в те годы в Милане было много кляйнианцев, и многие аналитики из Милана ездили в Лондон, чтобы пройти кляйнианский анализ. После их возвращения в Милане было кляйнианских аналитиков. Так что у меня было много супервизий, проведенных кляйнианцами.
ДКГ: Есть ли какие-то конкретные вещи, которые, на Вас взгляд, повлияли на Ваше мышление?
АФ: Интересный вопрос. Помню, как во время обучения было много итальянских тренинговых аналитиков, которые прошли обучение в Лондоне перед тем, как вернуться в Италию — меня курировали два кляйнианских аналитика, которые занимались этим: Лина Дженерали и Пьерандреа Луссанна. Кроме того, было много британских аналитиков, которые супервизировали работу в Италии. Мне посчастливилось супервизироваться у Мельцера, Розенфельда и Бренмана, каждый из которых оказал большое влияние на меня как на молодого аналитика.
ДЧГ: Я считаю, что наши тренинговые аналитики — одни из наших лучших учителей. Что думаете об этом?
АФ: Полностью согласен. Считаю, что самое важное в опыте аналитического тренинга — это вы в своем анализе. Я полностью убежден в этом. Больше, чем уроки супервизий, хотя они тоже очень важны. Но думаю, что корни уходят в ваш личный анализ. Не думаю, что есть различия между кляйнианским анализом и любым другим нормальным анализом. Всё тоже самое, так я думаю.
ДЧГ: Создал ли Ваш тренинговый аналитик какую-то конкретную концепцию/теорию?
АФ: Думаю, что он был особенным, потому что его семья была из Австрии, а он родился, как и я, на Сицилии. Какое сочетание, правда? У него было два аспекта: австрийский аспект, который был очень фрейдовский, и сицилийский аспект, который был очень бионианским. На Сицилии произошло странное явление: первые переводы Биона в Италии были сделаны группой аналитиков в Палермо. Так Бион был открыт в Италии в Палермо и переведен на итальянский язык в Палермо.
ДЧГ: Ага. Итак, когда именно Вы обнаружили Биона в своем обучение?
АФ: Я обнаружил Биона в своих супервизиях, не в тренинге. Потому что на обучении, на занятиях, на семинарах не было фокуса на Бионе. Он было скорее кляйнианским. Но оба моих первых супервизора находились под сильным влиянием Биона, и поэтому для меня знакомство с образом мышления Биона было захватывающим.
Пришло время, когда я понял, что с клинической точки зрения модель Кляйн меня не полностью убедила. Для меня она была слишком ригидной, слишком негибкой, и примерно в то время мне посчастливилось встретить нескольких аналитиков, вдохновленных Бионом, включая Франческо Коррао из Палермо, который первым перевел работу Биона на итальянский язык.
ДЧГ: Но концепция бионовского психоаналитический поля первоначально приходит от аргентинеца Вилли Барангера, да?
АФ: «Поле», разумеется, восходит ко времени еще до Барангера, беря свое начало в работе Мерло-Понти и даже до него. Барангер был первым, кто применил эту концепцию к психоанализу, и что меня больше всего заинтриговало, так это то, как он обратили внимание на образование слепых зон (или «бастионов», как их называет Барангер) во время сеансов. Это области сопротивления, определяемые пересекающимися проективными идентификациями, в том смысле, что не только пациент несет ответственность за их формирование, но и что между пациентом и аналитиком существует своего рода бессознательный сговор. Затем эти слепые пятна требуют особого интерпретационного внимания со стороны аналитика, чтобы растворить их. Сам факт того, что аналитическая пара определяет слепое пятно, казался важной концепцией для меня.
Затем концепция поля продолжала развиваться в другом и, я бы сказал, независимом направлении, благодаря другому аналитику итальянского происхождения, Франческо Коррао, который рассматривал психоаналитическое поле как сумму внутренней «групповости» пациента, взаимодействующей с группировкой аналитика для создания своего рода расширенной групповой ситуации. Коррао говорил, что не бывает анализа, в котором участвуют только два человека, и что в каждом анализе участвует группа. Все персонажи, возникающие во время анализа, создаются совместно пациентом и аналитиком.
ДЧГ: О каком конкретном способе мышления Биона Вы говорите?
АФ: Что мне так понравилось в модели Биона, так это ее гибкость и обманчивая простота. Меня также привлекла креативность, которую обещало это мышление и его неортодоксальность. Один из способов, которым я расширил мысль Биона, заключается в том, что я уделяю больше внимания инструментам мышления, чем фактическому содержанию, для которого эти инструменты требуются. Под этим я подразумеваю развитие способности контейнировать и метаболизировать, а также развитие всех инструментов, необходимых для работы с различным содержимыми разума.
Еще два основных момента — это развитие трансформации в игру и развитие трансформации в сновидение. К этим двум трансформациям, которые присоединяются к описанным Бионом в его книге «Трансформации» (1965 г.), я бы добавил трансформацию в биографию. Я не рассматриваю историческую реконструкцию чем-то, что действительно связано с прошлым, реальными событиями или исторической правдой. На самом деле я бы пошел даже дальше Фрейда, заявив, что трансформация в биографию может трансформировать то, что сообщает пациент, во что-то совершенно воображаемое — новую биография, новую личную история эмоций, привязанностей, со-конструкция, постоянно видоизменяющаяся в après coup.
ДКГ: Я слышала, как раньше Вы говорили о том, что бионианская и кляйнианские точки зрения могут согласовываться с реляционными принципами. Не могли бы рассказать чуть больше?
АФ: Что касается техники, я считаю, что различия, безусловно, есть, как уже мы отметили. Кляйнианская модель предписывает гораздо более интерпретативный и активный подход. Вначале он предусматривал интерпретации бессознательных телесных фантазий, а впоследствии и постоянную интерпретацию переноса. В ранней модели Биона интерпретациях переноса также занимала центральное место. Идея, которую они все разделяют, состоит в том, что есть два главных протагониста аналитической сцены. Во всех этих моделях мне кажется, что высшим общим знаменателем является центральность аналитического отношения, даже если в кляйнианской и бионианской модели это указывает на центральность более «фантазматических» отношений, но, тем не менее, на присутствие больше, чем одного разума, и все, что происходит, является плодом «взаимодействия» между двумя разумами.
В своих более поздних работах Бион отошел от концепции аналитической нейтральности, и с тех пор следование за взаимодействием двух умов стало отправной точкой каждой трансформации. Я уверен, что знаю больше о методах работы кляйнианца и бионианца, чем реляционного аналитика, но я думаю, что есть много совпадающих моментов — что наиболее важным аспектом является не то, что произошло в прошлом или в детстве, а отношения здесь и сейчас между пациентом и аналитиком. И что здесь и сейчас - это то место, где мы совершаем трансформации.
ДЧГ: «Здесь и сейчас» - очень реляционный концепт.
АФ: Да, так и есть. Для меня невозможно думать об анализе без здесь и сейчас. Потому что мы можем готовить и можем усваивать здесь и сейчас. Невозможно готовить в прошлом.
ДЧГ: Можете ли Вы рассказать мне об этой метафоре «готовки», которую используете?
[смех]
АФ: В прошлом я использовал эту метафору много раз. Я думаю, у нас есть своего рода необходимость приготавливать примитивные состояния ума, сырые эмоции. Их нужно преобразовывать, готовить, превращать в более переваренные эмоции. И это легче пояснить, используя бионианский язык. В бионианском образе мышления у нас есть бета-элементы, и эти бета-элементы — это ощущение реальности, стимулы, которые вы получаете от пациента, и те, что вы получаете изнутри, из своего прошлого. И все это ощущение реальности нужно каким-то образом трансформировать. Или, можно сказать, они должны быть приготовлены с помощью функции, которую Бион назвал альфа-функция, а затем они трансформируются в визуальные пиктограммы, являющиеся образами.
Итак, у нас есть этот процесс метаболизации из бета-элементов, из чувства реальности к последовательности образов, бессознательных образов. И я полагаю, это та работа, которая поделывается пациентом и аналитиком на сессии.
ДЧГ: Можем ли мы остановиться на этой метафоре приготовления? Я люблю готовить, поэтому я заинтересовалась, когда услышала Вашу идеи об интерпретации, связанной с кухней. Вы сказали, что есть две части сознания аналитика: кухня, где аналитик готовит из материала пациента, и другая часть ресторана, где аналитик сервирует интерпретацию. Далее Вы уточнили, что аналитик должен проводить больше времени на кухне, очищая вещи, добавляя больше соли, меньше соли (Ферро, 2006).Поэтому я хотела бы спросить, как Вы узнаете, когда пора выходить из кухни?
АФ: Я думаю, это очень интересно. Лучший момент для меня — поделиться с пациентом манифестным смыслом коммуникации пациента. Сразу после того, как я начинаю готовить на кухне манифестный материал, и когда я думаю, что он достаточно преобразован или достаточно приготовлен, я перехожу к маленькому блюду. Очень маленькому.
ДЧГ: Primi piatti [первое блюдо] или antipasti [закуски]?
АФ: Antipasti! Потому что это только начало. И предложить его пациенту, но не форсируя, а давая возможность попробовать на вкус. И, увидев реакцию пациента, я решаю, могу ли подать еще и основное блюдо. С картошкой, без неё, с солью. И я могу его изменить, слушая ответ моего пациента на интерпретацию. Таким образом, это непрерывная работа между кухней и рестораном. Всегда есть это движение. Я предлагаю комментарии (не люблю говорить интерпретации), предлагаю что-то пациенту. И наблюдаю за реакцией пациента на это замечание/интерпретацию и тут же общаюсь с кухней, на которой я должен изменить приготовление блюд: больше соли, меньше соли, больше сахара, больше соуса. Пытаюсь настроиться на пациента.
ДКГ: Другими словами, вы слышите манифестное содержание, идете на кухню и задумываетесь о нём. Потом вы выходите и приносите эти antipasti, и Вам интересно, как пациент отреагирует, верно? Так это со-конструирование реляционной модели.
АФ: Да. Это определенно совместное строительство.
ДКГ: Итак, это разум пациента и ваша субъективность, и все это приготовлено вместе.
АФ: Да. Аналитическая ситуация очень странна и необычна. Мы находимся с «настоящими» эмоциями и «настоящими» чувствами как пациента, так и аналитика, или, лучше сказать, поля, и мы должны делиться этими ситуациями на протяжении всего сеанса.
ДКГ: Я знаю, что вы рассказывали о некоторых американских теоретиках, которых очень любите: Тед Джейкобс, Оуэн Реник, Томас Огден. Я знаю, что все они очень разные, но что такого в этих аналитиках или их теориях, которыми вы восхищаетесь? Используете ли вы когда-нибудь их идеи в своей работе?
АФ: У меня страсть к Тому Огдену. Я очень восхищаюсь его творчеством, и думаю, что он открыл многие новых идеи. Например, концепцию того, что мы должны сновидеть то, о чем пациент сновидеть не может.
И то, что пациент не смог увидеть во сне, становится знаком, симптомом. И мы должны переварить это; мы должны это приготовить; мы должны сновидеть симптомы и таким образом оформлять их для наших пациентов. Я не знаю, является ли это полностью концепцией Тома. Может быть, она на 70% принадлежит ему и на 30 % мне, но мы разделяем этот интерес к трансформации, пищеварению и, в некотором роде, к полю. Поскольку работу Том называет аналитической романом, в некотором роде это является аспектом концепции поля. Они очень связаны. Так что Том Огден для меня замечательный человек, замечательный аналитик. Я также очень восхищаюсь Тедом Джейкобсом. Думаю, он замечательный человек. Именно Джейкобс распространил концепцию разыгрывания (enactment). И у меня было много возможностей встречаться и работать с ним во многих различных ситуациях, и я очень восхищаюсь тем, как он работает с разыгрываниями, возникающими на сеансе из историй пациента и аналитика, связанных вместе. Это очень увлекательно. И у меня также есть особая привязанность к моему другу Оуэну. Он замечательный человек.
ДКГ: Что такого замечательного в вашем друге Оуэне?
АФ: Ах! Оуэн это Оуэн! [смеётся]. Он очень свободен, он обладает свободным мышлением. Его работа над субъективностью аналитика очень и очень важна. Кроме того, он фантастически редактировал «Quarterly», так, как он открыл новые идеи. Он важный человек.
ДКГ: Кажется, я помню, как Тед Джейкобс рассказывал историю о своём первом супервизоре Энни Райх. Когда он вошел в ее комнату, у нее стоял стул под углом сорок пять градусов, а не за кушеткой, и практически рядом с ней. И когда он спросил об этом, она ответила: «А как еще вы сможете наблюдать за пациентом? Вы упускаете половину из коммуникации пациента, если не можете наблюдать и это». Итак, как это связано с тем, что пациенты лежат на кушетке с аналитиком, сидящим сзади него?
АФ: Лично я предпочитаю работать, когда это возможно, в кресле, стоящем позади пациента. Это из-за того, что мой разум более свободен для ассоциаций и мечтаний, когда я не вижу пациента. Я предпочитаю некую свободу получения впечатлений, ощущения реальности, фантазии. Для меня утомительно делать это лицом к лицу. На данном этапе моей карьеры это слишком утомительно. В молодые годы я мог сидеть весь день и смотреть на пациента, но сейчас не так. Для меня так лучше, но я могу понять, когда другие коллеги предпочитают работать по-другому. Но есть кое-что, что я не знаю, могу ли я сообщить.
ДКГ: То есть?
АФ: Я считаю, что пациент на кушетке работает лучше всего и наиболее удобен для аналитика! На самом деле Фрейду пришла в голову идея использовать кушетку, потому что он не мог выносить того, чтобы его пациенты целый день смотрели на него! То есть кушетка, благодаря отсутствию общения лицом к лицу, позволяет пациентам позволить своим мыслям блуждать, а затем отдаться свободному течению своих мыслей и фантазий. То же верно и для аналитика, который может отпустить реальность и легче войти в мир фантазий, мир ассоциаций, психических маршрутов, нарративов, освобождённый от столкновения с реальностью.
В конечном счете, я не считаю, что использование кушетки имеет решающее значение для анализа, который, как мне кажется, можно проводить в любом количестве позиций. Само собой, то, как пациент предпочитает находиться в одном, а не в другом положении, всегда является важным вопросом, который необходимо себе задать. Например, пациенты с тяжелым психическим заболеванием практически не могут лежать на кушетке, потому что в таком случае их разум слишком далеко уходит от реальности в миры, которые часто становятся преследующими. Например, одна пациентка однажды рассказала мне, что ей приснился сон, в котором позади нее был тигр или лев, готовый наброситься в любой момент.
Другой пациентке, после того как она, наконец, согласилась лечь на кушетку, снилось, что она находится на детской горке, сделанной из острых лезвий, которые режут ее и вызывают кровотечение. Итак, я не думаю, что всем будет легко лежать на кушетке, чтобы начать похожее на «Звездный путь» путешествие к неизведанным вселенным. Есть пациенты, которым нужно начать свое путешествие в автобусе, а не на борту космического корабля «Энтерпрайз», сначала посетив пригород, прежде чем отправиться в другой город или, возможно, даже в другие миры или галактики. Итак, как я уже сказал, часто встречаются пациенты, которые не хотят лежать на кушетке, и вполне возможно работать с ними лицом к лицу в различных вариациях.
ДКГ: Должно быть у Вас есть пациенты, которые отказываются от кушетки?
АФ: Возможно, одна из самых необычных ситуаций, в которых я как аналитик когда-либо оказывался, была с пациенткой, у которой было четыре сеанса в неделю и которая всегда отказывалась ложиться на кушетку.
Так что какое-то время ее сеансы были лицом к лицу, пока я не понял, что мне становится тяжело нормально работать под непогрешимым взглядом пациентки. Итак, я спросил ее, могу ли я развернуть свой стул так, чтобы я был к ней спиной, чтобы избежать ее пристального внимания и ее конкретного взгляда. Пациентка согласилась на это предложение, потому что для нее было важно следить за мной, а не наоборот. Проработав так некоторое время, пациентке приснился сон, в котором ей пришлось переехать из дома. Естественно, это дало мне возможность затронуть тему нашего переезда от двух стульев к креслу и кушетке.
В конце концов она согласилась на это, и мы договорились, что наш переезд состоится в следующий понедельник. Настал судьбоносный день, но вместо того, чтобы направиться к кушетке, пациентка быстро устроилась в моем кресле! В тот момент мне пришлось принять быстрое решение и отбросить все возможные интерпретации, такие как ее чувства по поводу отказа от контроля или того, что она пытается занять мое место. Я совершенно спокойно подошёл к кушетке и лёг на неё. Я удобно устроился, вспомнив, что когда Мария Бонапарт в поздние годы страдала от ревматизма, она тоже ложилась на кушетку, оставляя своего пациента сидеть на неудобном стуле.
Некоторое время мы продолжали так, и я обнаружил, что не потерял свою роль «капитана корабля» даже на кушетке. Излишне говорить, что я пытался говорить и интерпретировать ситуацию, но ничего не менялось, пока она не заговорила со мной о секретарше на работе, которая самовольно заняла чужой кабинет и с которой ей придется поговорить, чтобы каждый мог вернуться себе законное место. Очевидно, я воспользовался возможностью обсудить с ней этого смелого секретаря, и это был первый шаг к тому, чтобы мы смогли спланировать новый переезд. Так что, в конце концов, каждый из нас занял свое место, и аналитическое путешествие продолжилось в более привычной обстановке.
ДКГ: Это замечательная история. Что, по вашему мнению, произошло, что позволило ей, наконец, использовать кушетку?
АФ: Я считаю, что этот факт является частью трансформации в игру чего-то, что еще не готово быть сказанным, понятым, рационализированным или чьи мотивы все еще неясны. Понимание этого «факта» и возможность поиграть с обстановкой позволили пациентке произвести трансформацию, чтобы анализ мог продолжаться более гладко. Таким образом, именно трансформация в игру позволила метаболизировать и трансформировать персекуторные тревоги пациентки. Как только они были метаболизированы и переварены, она смогла принять менее оборонительную и контролирующую позицию.
ДКГ: То есть вы говорите, что ревери может случиться где угодно?
АФ: Да, без сомнений и потом у нас с ней продолжался длительный анализ на кушетке без проблем. И я думаю, что это то, можно извлечь из умения играть с детьми. Потому что, если вы специалист по детскому анализу или по психотическим пациентам, то знаете, что неважно находитесь вы с пациентом, на кушетке, под кушеткой или на полу. Это другой способ, свободный способ мышления, который важен тем, что происходит между двумя умами. Когда дети играют на полу, вы играете по-другому. Так что это один из даров, которые анализ с детьми может преподнести другим.
ДКГ: Большинство ли аналитиков в Италии используют кушетку?
АФ: Думаю, почти все при проведении анализа (а это означает три-четыре сеанса в неделю) используют кушетку. Иногда встречаются пациенты, параноидальные пациенты или другие пациенты с очень тяжелой патологией, которые длительное время не могут выдерживать положение на кушетке. Но обычно в какой-то момент они к этому приходят и принимают это.
ДКГ: Является ли «теория поля» выбором большинства итальянских аналитиков?
АФ: Теория поля используется в некоторых регионах, но не является преобладающей моделью в Италии. Большинство итальянских аналитиков выбирают развитую реляционную модель, я бы сказал, пост-кляйнианскую. Есть также несколько анклавов, где больше сторонников Винникотта или традиционные фрейдисты.
ДКГ: Изменился ли с годами Ваш способ работы с пациентами?
АФ: Я думаю, что у меня было много трансформаций в моем способе работы. Но я всегда меняю свой способ работы по некоторым предложениям, полученным от пациентов. Например, я помню, когда я был кляйнианцем — mon dieu — и я им был! Я вспомнил, как однажды пришла пациентка и сказала: «Теперь мне нужно серьезно поговорить с вами. Я не пойду на кушетку, но должна сказать Вам кое-что важное». И она сказала: «Когда я пришла в вашу консультационную комнату, у меня была одна проблема, проблема с моим женихом. Когда я выхожу после сеанса, у меня две проблемы: одна с женихом, а другая с Вами! Интересно, в чем моя ошибка?»
Это происходило в мой кляйнианский период, когда я имел обыкновение интерпретировать все в переносе.
[смеётся] Для меня это было важным сообщением, и оно позволило мне уйти от обязательства постоянно интерпретировать перенос. Для меня было важно подчеркнуть трансформации, произошедшие в ходе сеанса, а не постоянно интерпретировать то, что пациентка сказала о женихе непосредственно в переносе. И это заставило меня задуматься о том, что самое важное — работать над изменением отношений между пациенткой и женихом. Но в моем представлении женихом, без сомнения, был я. Но не было необходимости постоянно интерпретировать, что жених — это я, и постоянно всему давать интерпретацию переноса.
ДКГ: То есть, Вы хотите сказать, что она научила Вас тому, что иногда ей нужен жених, который был бы просто женихом?
АФ: Да, жених долгое время был просто женихом, но в моем разуме, на кухне, он был мной. Много лет спустя, когда я пришел к понятию поля [тут доктор Ферро достал бумагу и карандаш, чтобы показать мне, что находится в поле и за его пределами], в этот момент у меня возник другой образ мыслей: что жених был персонажем в поле. Итак, это жених, это отец пациента, это собака. Каждый персонаж находится в поле. Если пациент рассказывал о чем-то не из области, например: «Мой двоюродный брат в Буэнос-Айресе — убийца», то в каком-то смысле этого достаточно, чтобы поле расширилось. Поле расширяется, включая Буэнос-Айрес и убийцу. Я думаю, что убийца находится в консультационной комнате, и теперь мы должны приготовить и переварить убийцу. В течение длительного времени я не знаю, является ли убийца частью пациента или частью меня. Все является чем-то, что производится вместе: пациентом и мною самим.
Итак, мой способ осмысления поля заключается в том, что когда приходит пациент со своими внутренними группами, и аналитик открывает дверь со своими внутренними группами, — когда они встречаются, сразу происходит трансформация всего этого в поле со всеми его характеристиками. И когда на поле появляется новый персонаж, я не обязательно думаю, что этот персонаж приходит из прошлого или из внешней реальности. Я думаю, что в этот момент поле нуждается в этом персонаже извне, чтобы что-то выразить, естественно, всегда помня о том, что поле действует как GPS, оно постоянно дает нам знать, куда мы движемся, и что мы должны выбрать направление, соответствующее потребностям пациента или его внутреннему миру, а не нашим.
ДКГ: В своих работах вы используете термин «нарратология», это похоже?
АФ:«Нарратология» стала важна, потому что способ рассмотрения этой вымышленной правды или театральной сцены сильно отличается от классической психоаналитической опоры на непрерывные интерпретации аналитика. С другой стороны, мы похожи на режиссеров, чья роль состоит в том, чтобы способствовать развитию истории, используя персонажей, уже присутствующих в сцене, а также помогая пациенту создавать новых персонажей или даже сами представляя новых, чтобы облегчить развитие и трансформаций нарратива, который естественным образом оживает.
ДКГ: Я хотела бы задать несколько общих вопросов о практике в Италии. Как много пациентов Вы принимаете в день?
АФ: Сейчас все меньше и меньше, чем раньше. Я принимаю четыре, максимум пять пациентов. В остальные часы я предпочитаю заниматься супервизией. Но когда я был молод, у меня было много, много пациентов.
В течение многих лет у меня было десять пациентов в день. Это было очень утомительно. Теперь для меня пять пациентов - это просто уровень работы, который я могу выполнить.
ДКГ: Правда ли, что в Италии всего 700 психоаналитиков, и как это связано со взглядом людей в Италии на психоанализ и психоаналитическое лечение?
АФ: Что ж, 700 — это только число аналитиков, связанных с IPA, Международной психоаналитической ассоциацией, это только члены Итальянского психоаналитического общества. Помимо этого, есть много, много, много аналитиков в других обществах, не входящих в IPA. Это число тех, кто связаны с IPA. Многие другие связаны с другими школами.
ДКГ: А какие есть школы в Италии?
АФ: У нас их множество: реляционные, многие в когнитивной терапии, юнгианские, лакановские. Я думаю, что в Италии есть много разных точек зрения. Существует не только одна линия мышления. Например, если вы проводите анализ с кляйнианцем, никто не посоветует вам проводить супервизию с другим кляйнианцем. Я думаю, что у нас может быть 20% Фрейда, 10% Кляйн, 20% Биона, и после этого ещё и другие — винникоттовские и т. д.
ДКГ: Получается теория бионовского поля – не выбор итальянских психоаналитиков?
АФ: Не основной выбор, но для меня это один из самых важных компонентов, один из самых живых. Многие молодые люди также заинтересованы в нём. Теория поля используется в некоторых регионах, но не является преобладающей моделью в Италии.
ДКГ: Итак, за те несколько минут, которые у нас остались, у меня есть пара вещей, которые меня занимают. Я читала, что система здравоохранения в Италии похожа на французскую, что очень замечательно. Как работает международная система здравоохранения, когда люди платят взносы, и как люди в Италии это делают?
АФ: У нас есть отличная система для всех болезней, но не для психоанализа. Например, у нас есть бесплатные услуги по охране психического здоровья, где вы можете получить лекарства или фармакотерапию, но для терапевтических встреч — немного.
ДКГ: Они ограничивают количество сеансов, которые вы можете проводить?
АФ: Для анализа или длительной психотерапии приходится пользоваться частной страховкой, но не у многих есть страховка от психических расстройств. Но если у вас есть необходимость в пересадке сердца, это совершенно бесплатно для всех. И нет разницы между самым богатым и самым бедным человеком.
ДКГ: Значит, итальянцы не считают разум и тело связанными?
АФ: Есть элементарная психиатрия. Но не психотерапия или психоанализ. Психиатрия в Италии очень социальная и биологическая. Психоанализ не получает взносов от государства, за исключением для детей. Потому что для детей есть разные места. В Милане есть три или четыре места, где можно дети могут пройти психоанализ или психотерапию. Но только до 18 лет. После 18 лет для психоанализа или долгосрочной психотерапии вы должны оплачивать полную стоимость или использовать частную страховку. Я сейчас работаю только в частном порядке. Когда я был моложе, то работал в университетской системе, которая была связана с государственным психическим здоровьем.
ДКГ: Есть ли что-то еще, что Вы хотели бы сообщить о различиях, которые Вы видите в Италии по сравнению с другими странами?
АФ: Да, я удивляюсь и завидую свободе психоанализа в других местах, потому что в Европе у нас «это является психоанализом», и «это не является психоанализом». И именно эта ультраортодоксия не позволяет нам выполнять нашу работу по-настоящему творчески. В Штатах, например, я всегда обнаруживал больше мужества, свободы и различных способов мышления.
ДКГ: Значит, вы говорите, что в Европе существует авторитарная, ригидная структура того, чем является психоанализ?
АФ: Не авторитарная или ортодоксальная, но есть более сильное представление о том, что ортодоксально, а что нет. Я рассказал вам, например, историю с пациенткой, когда я лежал на кушетке. Теперь я могу позволить себе рассказать об этом в любом месте Европы без полемики. Но если бы я был молодым аналитиком, я бы столкнулся с другой ситуацией. Что-то типа «это правильно», «это не правильно».
ДКГ: Это то, как в настоящее время обучают в институтах, с этой ортодоксальностью?
АФ: Сейчас мы убеждаем коллег попытаться изменить это, и я надеюсь, что могут появиться новые идеи. Например, в Италии на самораскрытие смотрят как на дьявола.
ДКГ: Ну, судя по тому, что Вы мне сегодня рассказали, не похоже, что Вы разделяете это мнение.
АФ: Нисколько. У меня нет проблем с этим дьяволом. На самом деле он мне очень нравится!
ДКГ: Я верю в это! Спасибо, доктор Ферро, это была замечательная беседа, и мне не терпится поделиться ею с людьми.
АФ: Да, я родился в Палермо, в этом очаровательном городе. Я его обожаю, также обожаю то, что я сицилиец. У Палермо нет особенных характеристик в том смысле, что Палермо — большой город, очаровательный город, наверное, с разными культурами, которые пересекаются друг с другом. Это очень открытый город, хотя Палермо и Сицилия в каком-то смысле связаны с идеей мафии, по крайней мере, в СМИ.
ДЧГ: С мафией?
АФ: Да, но в обычной жизни, если у вас нет производства, связанного с мафией, вам никогда не придется иметь с ней дело.
ДЧГ: Итак, когда Вы приехали на север, в Милан и Павию?
АФ: Я закончил обучение медицине в Палермо, а затем переехал в Павию по многим причинам. Когда я решил специализироваться на психиатрии, я очень хотел курс, ориентированный на психодинамику, и в то время единственным местом, где это было возможно, была психиатрическая клиника Павии. Кроме того, когда я связался с аналитиком, с которым надеялся начать свой личный психоанализ, то узнал, что он переезжает в Милан, который, как вы знаете, находится недалеко от Павии. В детстве я был очарован яркими рассказами моего отца о годах, проведенных в Павии, он описывал его как «город, окутанный туманом». Примерно в то же время я познакомился со своей будущей женой, которая жила на севере Италии и тоже собиралась переехать в Милан. Так что все это способствовало моему решению переехать из Палермо в Павию.
ДЧГ: Где Вы получили степень в медицине, хирургии и психиатрия. Повлияла ли семьи на этот путь?
АФ: Мой отец был кардиохирургом, он прошёл специализацию в Павии. В детстве меня увлекала работа моего отца. Из-за этого увлечения я ассистировал ему в операционной, когда мне было лет 8 или 9 лет.
ДЧГ: Ух ты, в 8 лет в операционной? Говорили «передайте мне скальпель»?
АФ: [Смеется] Да, в своём белом халате. Возможно, немного садистски! Я много лет думал, что выберу карьеру хирурга, как мой отец, но передумал и вместо этого стал изучать психиатрию.
ДЧГ: Значит, у Вас действительно есть степени в области медицины, хирургии и психиатрии?
АФ: В Италии они всегда связаны. У всех есть дипломы в области медицины и хирургии, а потом я ещё получил диплом психиатра.
ДЧГ: Изначально Вы были заинтересован в детской нейропсихиатрии. Расскажите об этом.
АФ: На самом деле, большая часть моей ранней работы была связана с детьми. В то время я специализировалась на взрослой психиатрии и больше был знаком с работой со взрослыми пациентами, поэтому поначалу меня немного пугало отсутствие у меня опыта работы с детьми, испытывающими психологические проблемы. Так я начал работать с группами учителей, а затем и с родителями. Когда я почувствовал себя готовым, начал работать с подростками и, наконец, с юными детьми, только чтобы обнаружить, что это легче, чем я представлял. Возможно, мой подход к работе с детьми шел рука об руку с моим личным анализом, который помог мне преодолеть страх перед встречей с «ребенком» или, как оказалось, «детьми» во мне!
ДЧГ: А теперь вы все еще работаете с детьми в своей практике?
АФ: Да, но в настоящее время я работаю со взрослыми и маленькими детьми трёх-четырёх лет.
ДЧГ: Что предпочитаете?
АФ: Думаю, что разум всегда одинаков. Между детским и взрослым анализом не так много различий.
ДЧГ: Правда? Расскажите об этом!
АФ: В сущности, я не думаю, что есть какие-то большие различия в том смысле, что психическое функционирование взрослых и детей очень похоже. Что отличается, так это язык, который дети используют для самовыражения, под которым я подразумеваю то, как они будут это делать через игры, рисование и движения — методы, о которых взрослые пациенты могут не подозревать, что они могут их использовать (возможно, к счастью!). То, что я только что сказал, справедливо и в том случае, если мы не будем рассматривать строгие или ригидные фазы психического развития, предложенные моделью Фрейда, а вместо этого рассмотрим модель психического функционирования Биона и идеи тех, кто продолжал развивать его мысли.
ДЧГ: В Соединенных Штатах есть разделение в тренинге. Вы обучаетесь либо детскому психоанализу, либо взрослому.
АФ: В Италии тоже обучение разделено. Но я думаю, что, например, с детьми можно играть в игрушки и так далее, а со взрослыми можно играть словами. У нас есть каракули Винникотта для детей, но вы также можете иметь что-то подобное с голосом у взрослых. Это то что объединяет - дискурс игры.
ДЧГ: Ваше психоаналитическое обучение проходило в Милане, верно? В то время в Италии было много кляйнианцев. Обучал ли Вас кто-нибудь из них?
АФ: Вы правы, в те годы в Милане было много кляйнианцев, и многие аналитики из Милана ездили в Лондон, чтобы пройти кляйнианский анализ. После их возвращения в Милане было кляйнианских аналитиков. Так что у меня было много супервизий, проведенных кляйнианцами.
ДКГ: Есть ли какие-то конкретные вещи, которые, на Вас взгляд, повлияли на Ваше мышление?
АФ: Интересный вопрос. Помню, как во время обучения было много итальянских тренинговых аналитиков, которые прошли обучение в Лондоне перед тем, как вернуться в Италию — меня курировали два кляйнианских аналитика, которые занимались этим: Лина Дженерали и Пьерандреа Луссанна. Кроме того, было много британских аналитиков, которые супервизировали работу в Италии. Мне посчастливилось супервизироваться у Мельцера, Розенфельда и Бренмана, каждый из которых оказал большое влияние на меня как на молодого аналитика.
ДЧГ: Я считаю, что наши тренинговые аналитики — одни из наших лучших учителей. Что думаете об этом?
АФ: Полностью согласен. Считаю, что самое важное в опыте аналитического тренинга — это вы в своем анализе. Я полностью убежден в этом. Больше, чем уроки супервизий, хотя они тоже очень важны. Но думаю, что корни уходят в ваш личный анализ. Не думаю, что есть различия между кляйнианским анализом и любым другим нормальным анализом. Всё тоже самое, так я думаю.
ДЧГ: Создал ли Ваш тренинговый аналитик какую-то конкретную концепцию/теорию?
АФ: Думаю, что он был особенным, потому что его семья была из Австрии, а он родился, как и я, на Сицилии. Какое сочетание, правда? У него было два аспекта: австрийский аспект, который был очень фрейдовский, и сицилийский аспект, который был очень бионианским. На Сицилии произошло странное явление: первые переводы Биона в Италии были сделаны группой аналитиков в Палермо. Так Бион был открыт в Италии в Палермо и переведен на итальянский язык в Палермо.
ДЧГ: Ага. Итак, когда именно Вы обнаружили Биона в своем обучение?
АФ: Я обнаружил Биона в своих супервизиях, не в тренинге. Потому что на обучении, на занятиях, на семинарах не было фокуса на Бионе. Он было скорее кляйнианским. Но оба моих первых супервизора находились под сильным влиянием Биона, и поэтому для меня знакомство с образом мышления Биона было захватывающим.
Пришло время, когда я понял, что с клинической точки зрения модель Кляйн меня не полностью убедила. Для меня она была слишком ригидной, слишком негибкой, и примерно в то время мне посчастливилось встретить нескольких аналитиков, вдохновленных Бионом, включая Франческо Коррао из Палермо, который первым перевел работу Биона на итальянский язык.
ДЧГ: Но концепция бионовского психоаналитический поля первоначально приходит от аргентинеца Вилли Барангера, да?
АФ: «Поле», разумеется, восходит ко времени еще до Барангера, беря свое начало в работе Мерло-Понти и даже до него. Барангер был первым, кто применил эту концепцию к психоанализу, и что меня больше всего заинтриговало, так это то, как он обратили внимание на образование слепых зон (или «бастионов», как их называет Барангер) во время сеансов. Это области сопротивления, определяемые пересекающимися проективными идентификациями, в том смысле, что не только пациент несет ответственность за их формирование, но и что между пациентом и аналитиком существует своего рода бессознательный сговор. Затем эти слепые пятна требуют особого интерпретационного внимания со стороны аналитика, чтобы растворить их. Сам факт того, что аналитическая пара определяет слепое пятно, казался важной концепцией для меня.
Затем концепция поля продолжала развиваться в другом и, я бы сказал, независимом направлении, благодаря другому аналитику итальянского происхождения, Франческо Коррао, который рассматривал психоаналитическое поле как сумму внутренней «групповости» пациента, взаимодействующей с группировкой аналитика для создания своего рода расширенной групповой ситуации. Коррао говорил, что не бывает анализа, в котором участвуют только два человека, и что в каждом анализе участвует группа. Все персонажи, возникающие во время анализа, создаются совместно пациентом и аналитиком.
ДЧГ: О каком конкретном способе мышления Биона Вы говорите?
АФ: Что мне так понравилось в модели Биона, так это ее гибкость и обманчивая простота. Меня также привлекла креативность, которую обещало это мышление и его неортодоксальность. Один из способов, которым я расширил мысль Биона, заключается в том, что я уделяю больше внимания инструментам мышления, чем фактическому содержанию, для которого эти инструменты требуются. Под этим я подразумеваю развитие способности контейнировать и метаболизировать, а также развитие всех инструментов, необходимых для работы с различным содержимыми разума.
Еще два основных момента — это развитие трансформации в игру и развитие трансформации в сновидение. К этим двум трансформациям, которые присоединяются к описанным Бионом в его книге «Трансформации» (1965 г.), я бы добавил трансформацию в биографию. Я не рассматриваю историческую реконструкцию чем-то, что действительно связано с прошлым, реальными событиями или исторической правдой. На самом деле я бы пошел даже дальше Фрейда, заявив, что трансформация в биографию может трансформировать то, что сообщает пациент, во что-то совершенно воображаемое — новую биография, новую личную история эмоций, привязанностей, со-конструкция, постоянно видоизменяющаяся в après coup.
ДКГ: Я слышала, как раньше Вы говорили о том, что бионианская и кляйнианские точки зрения могут согласовываться с реляционными принципами. Не могли бы рассказать чуть больше?
АФ: Что касается техники, я считаю, что различия, безусловно, есть, как уже мы отметили. Кляйнианская модель предписывает гораздо более интерпретативный и активный подход. Вначале он предусматривал интерпретации бессознательных телесных фантазий, а впоследствии и постоянную интерпретацию переноса. В ранней модели Биона интерпретациях переноса также занимала центральное место. Идея, которую они все разделяют, состоит в том, что есть два главных протагониста аналитической сцены. Во всех этих моделях мне кажется, что высшим общим знаменателем является центральность аналитического отношения, даже если в кляйнианской и бионианской модели это указывает на центральность более «фантазматических» отношений, но, тем не менее, на присутствие больше, чем одного разума, и все, что происходит, является плодом «взаимодействия» между двумя разумами.
В своих более поздних работах Бион отошел от концепции аналитической нейтральности, и с тех пор следование за взаимодействием двух умов стало отправной точкой каждой трансформации. Я уверен, что знаю больше о методах работы кляйнианца и бионианца, чем реляционного аналитика, но я думаю, что есть много совпадающих моментов — что наиболее важным аспектом является не то, что произошло в прошлом или в детстве, а отношения здесь и сейчас между пациентом и аналитиком. И что здесь и сейчас - это то место, где мы совершаем трансформации.
ДЧГ: «Здесь и сейчас» - очень реляционный концепт.
АФ: Да, так и есть. Для меня невозможно думать об анализе без здесь и сейчас. Потому что мы можем готовить и можем усваивать здесь и сейчас. Невозможно готовить в прошлом.
ДЧГ: Можете ли Вы рассказать мне об этой метафоре «готовки», которую используете?
[смех]
АФ: В прошлом я использовал эту метафору много раз. Я думаю, у нас есть своего рода необходимость приготавливать примитивные состояния ума, сырые эмоции. Их нужно преобразовывать, готовить, превращать в более переваренные эмоции. И это легче пояснить, используя бионианский язык. В бионианском образе мышления у нас есть бета-элементы, и эти бета-элементы — это ощущение реальности, стимулы, которые вы получаете от пациента, и те, что вы получаете изнутри, из своего прошлого. И все это ощущение реальности нужно каким-то образом трансформировать. Или, можно сказать, они должны быть приготовлены с помощью функции, которую Бион назвал альфа-функция, а затем они трансформируются в визуальные пиктограммы, являющиеся образами.
Итак, у нас есть этот процесс метаболизации из бета-элементов, из чувства реальности к последовательности образов, бессознательных образов. И я полагаю, это та работа, которая поделывается пациентом и аналитиком на сессии.
ДЧГ: Можем ли мы остановиться на этой метафоре приготовления? Я люблю готовить, поэтому я заинтересовалась, когда услышала Вашу идеи об интерпретации, связанной с кухней. Вы сказали, что есть две части сознания аналитика: кухня, где аналитик готовит из материала пациента, и другая часть ресторана, где аналитик сервирует интерпретацию. Далее Вы уточнили, что аналитик должен проводить больше времени на кухне, очищая вещи, добавляя больше соли, меньше соли (Ферро, 2006).Поэтому я хотела бы спросить, как Вы узнаете, когда пора выходить из кухни?
АФ: Я думаю, это очень интересно. Лучший момент для меня — поделиться с пациентом манифестным смыслом коммуникации пациента. Сразу после того, как я начинаю готовить на кухне манифестный материал, и когда я думаю, что он достаточно преобразован или достаточно приготовлен, я перехожу к маленькому блюду. Очень маленькому.
ДЧГ: Primi piatti [первое блюдо] или antipasti [закуски]?
АФ: Antipasti! Потому что это только начало. И предложить его пациенту, но не форсируя, а давая возможность попробовать на вкус. И, увидев реакцию пациента, я решаю, могу ли подать еще и основное блюдо. С картошкой, без неё, с солью. И я могу его изменить, слушая ответ моего пациента на интерпретацию. Таким образом, это непрерывная работа между кухней и рестораном. Всегда есть это движение. Я предлагаю комментарии (не люблю говорить интерпретации), предлагаю что-то пациенту. И наблюдаю за реакцией пациента на это замечание/интерпретацию и тут же общаюсь с кухней, на которой я должен изменить приготовление блюд: больше соли, меньше соли, больше сахара, больше соуса. Пытаюсь настроиться на пациента.
ДКГ: Другими словами, вы слышите манифестное содержание, идете на кухню и задумываетесь о нём. Потом вы выходите и приносите эти antipasti, и Вам интересно, как пациент отреагирует, верно? Так это со-конструирование реляционной модели.
АФ: Да. Это определенно совместное строительство.
ДКГ: Итак, это разум пациента и ваша субъективность, и все это приготовлено вместе.
АФ: Да. Аналитическая ситуация очень странна и необычна. Мы находимся с «настоящими» эмоциями и «настоящими» чувствами как пациента, так и аналитика, или, лучше сказать, поля, и мы должны делиться этими ситуациями на протяжении всего сеанса.
ДКГ: Я знаю, что вы рассказывали о некоторых американских теоретиках, которых очень любите: Тед Джейкобс, Оуэн Реник, Томас Огден. Я знаю, что все они очень разные, но что такого в этих аналитиках или их теориях, которыми вы восхищаетесь? Используете ли вы когда-нибудь их идеи в своей работе?
АФ: У меня страсть к Тому Огдену. Я очень восхищаюсь его творчеством, и думаю, что он открыл многие новых идеи. Например, концепцию того, что мы должны сновидеть то, о чем пациент сновидеть не может.
И то, что пациент не смог увидеть во сне, становится знаком, симптомом. И мы должны переварить это; мы должны это приготовить; мы должны сновидеть симптомы и таким образом оформлять их для наших пациентов. Я не знаю, является ли это полностью концепцией Тома. Может быть, она на 70% принадлежит ему и на 30 % мне, но мы разделяем этот интерес к трансформации, пищеварению и, в некотором роде, к полю. Поскольку работу Том называет аналитической романом, в некотором роде это является аспектом концепции поля. Они очень связаны. Так что Том Огден для меня замечательный человек, замечательный аналитик. Я также очень восхищаюсь Тедом Джейкобсом. Думаю, он замечательный человек. Именно Джейкобс распространил концепцию разыгрывания (enactment). И у меня было много возможностей встречаться и работать с ним во многих различных ситуациях, и я очень восхищаюсь тем, как он работает с разыгрываниями, возникающими на сеансе из историй пациента и аналитика, связанных вместе. Это очень увлекательно. И у меня также есть особая привязанность к моему другу Оуэну. Он замечательный человек.
ДКГ: Что такого замечательного в вашем друге Оуэне?
АФ: Ах! Оуэн это Оуэн! [смеётся]. Он очень свободен, он обладает свободным мышлением. Его работа над субъективностью аналитика очень и очень важна. Кроме того, он фантастически редактировал «Quarterly», так, как он открыл новые идеи. Он важный человек.
ДКГ: Кажется, я помню, как Тед Джейкобс рассказывал историю о своём первом супервизоре Энни Райх. Когда он вошел в ее комнату, у нее стоял стул под углом сорок пять градусов, а не за кушеткой, и практически рядом с ней. И когда он спросил об этом, она ответила: «А как еще вы сможете наблюдать за пациентом? Вы упускаете половину из коммуникации пациента, если не можете наблюдать и это». Итак, как это связано с тем, что пациенты лежат на кушетке с аналитиком, сидящим сзади него?
АФ: Лично я предпочитаю работать, когда это возможно, в кресле, стоящем позади пациента. Это из-за того, что мой разум более свободен для ассоциаций и мечтаний, когда я не вижу пациента. Я предпочитаю некую свободу получения впечатлений, ощущения реальности, фантазии. Для меня утомительно делать это лицом к лицу. На данном этапе моей карьеры это слишком утомительно. В молодые годы я мог сидеть весь день и смотреть на пациента, но сейчас не так. Для меня так лучше, но я могу понять, когда другие коллеги предпочитают работать по-другому. Но есть кое-что, что я не знаю, могу ли я сообщить.
ДКГ: То есть?
АФ: Я считаю, что пациент на кушетке работает лучше всего и наиболее удобен для аналитика! На самом деле Фрейду пришла в голову идея использовать кушетку, потому что он не мог выносить того, чтобы его пациенты целый день смотрели на него! То есть кушетка, благодаря отсутствию общения лицом к лицу, позволяет пациентам позволить своим мыслям блуждать, а затем отдаться свободному течению своих мыслей и фантазий. То же верно и для аналитика, который может отпустить реальность и легче войти в мир фантазий, мир ассоциаций, психических маршрутов, нарративов, освобождённый от столкновения с реальностью.
В конечном счете, я не считаю, что использование кушетки имеет решающее значение для анализа, который, как мне кажется, можно проводить в любом количестве позиций. Само собой, то, как пациент предпочитает находиться в одном, а не в другом положении, всегда является важным вопросом, который необходимо себе задать. Например, пациенты с тяжелым психическим заболеванием практически не могут лежать на кушетке, потому что в таком случае их разум слишком далеко уходит от реальности в миры, которые часто становятся преследующими. Например, одна пациентка однажды рассказала мне, что ей приснился сон, в котором позади нее был тигр или лев, готовый наброситься в любой момент.
Другой пациентке, после того как она, наконец, согласилась лечь на кушетку, снилось, что она находится на детской горке, сделанной из острых лезвий, которые режут ее и вызывают кровотечение. Итак, я не думаю, что всем будет легко лежать на кушетке, чтобы начать похожее на «Звездный путь» путешествие к неизведанным вселенным. Есть пациенты, которым нужно начать свое путешествие в автобусе, а не на борту космического корабля «Энтерпрайз», сначала посетив пригород, прежде чем отправиться в другой город или, возможно, даже в другие миры или галактики. Итак, как я уже сказал, часто встречаются пациенты, которые не хотят лежать на кушетке, и вполне возможно работать с ними лицом к лицу в различных вариациях.
ДКГ: Должно быть у Вас есть пациенты, которые отказываются от кушетки?
АФ: Возможно, одна из самых необычных ситуаций, в которых я как аналитик когда-либо оказывался, была с пациенткой, у которой было четыре сеанса в неделю и которая всегда отказывалась ложиться на кушетку.
Так что какое-то время ее сеансы были лицом к лицу, пока я не понял, что мне становится тяжело нормально работать под непогрешимым взглядом пациентки. Итак, я спросил ее, могу ли я развернуть свой стул так, чтобы я был к ней спиной, чтобы избежать ее пристального внимания и ее конкретного взгляда. Пациентка согласилась на это предложение, потому что для нее было важно следить за мной, а не наоборот. Проработав так некоторое время, пациентке приснился сон, в котором ей пришлось переехать из дома. Естественно, это дало мне возможность затронуть тему нашего переезда от двух стульев к креслу и кушетке.
В конце концов она согласилась на это, и мы договорились, что наш переезд состоится в следующий понедельник. Настал судьбоносный день, но вместо того, чтобы направиться к кушетке, пациентка быстро устроилась в моем кресле! В тот момент мне пришлось принять быстрое решение и отбросить все возможные интерпретации, такие как ее чувства по поводу отказа от контроля или того, что она пытается занять мое место. Я совершенно спокойно подошёл к кушетке и лёг на неё. Я удобно устроился, вспомнив, что когда Мария Бонапарт в поздние годы страдала от ревматизма, она тоже ложилась на кушетку, оставляя своего пациента сидеть на неудобном стуле.
Некоторое время мы продолжали так, и я обнаружил, что не потерял свою роль «капитана корабля» даже на кушетке. Излишне говорить, что я пытался говорить и интерпретировать ситуацию, но ничего не менялось, пока она не заговорила со мной о секретарше на работе, которая самовольно заняла чужой кабинет и с которой ей придется поговорить, чтобы каждый мог вернуться себе законное место. Очевидно, я воспользовался возможностью обсудить с ней этого смелого секретаря, и это был первый шаг к тому, чтобы мы смогли спланировать новый переезд. Так что, в конце концов, каждый из нас занял свое место, и аналитическое путешествие продолжилось в более привычной обстановке.
ДКГ: Это замечательная история. Что, по вашему мнению, произошло, что позволило ей, наконец, использовать кушетку?
АФ: Я считаю, что этот факт является частью трансформации в игру чего-то, что еще не готово быть сказанным, понятым, рационализированным или чьи мотивы все еще неясны. Понимание этого «факта» и возможность поиграть с обстановкой позволили пациентке произвести трансформацию, чтобы анализ мог продолжаться более гладко. Таким образом, именно трансформация в игру позволила метаболизировать и трансформировать персекуторные тревоги пациентки. Как только они были метаболизированы и переварены, она смогла принять менее оборонительную и контролирующую позицию.
ДКГ: То есть вы говорите, что ревери может случиться где угодно?
АФ: Да, без сомнений и потом у нас с ней продолжался длительный анализ на кушетке без проблем. И я думаю, что это то, можно извлечь из умения играть с детьми. Потому что, если вы специалист по детскому анализу или по психотическим пациентам, то знаете, что неважно находитесь вы с пациентом, на кушетке, под кушеткой или на полу. Это другой способ, свободный способ мышления, который важен тем, что происходит между двумя умами. Когда дети играют на полу, вы играете по-другому. Так что это один из даров, которые анализ с детьми может преподнести другим.
ДКГ: Большинство ли аналитиков в Италии используют кушетку?
АФ: Думаю, почти все при проведении анализа (а это означает три-четыре сеанса в неделю) используют кушетку. Иногда встречаются пациенты, параноидальные пациенты или другие пациенты с очень тяжелой патологией, которые длительное время не могут выдерживать положение на кушетке. Но обычно в какой-то момент они к этому приходят и принимают это.
ДКГ: Является ли «теория поля» выбором большинства итальянских аналитиков?
АФ: Теория поля используется в некоторых регионах, но не является преобладающей моделью в Италии. Большинство итальянских аналитиков выбирают развитую реляционную модель, я бы сказал, пост-кляйнианскую. Есть также несколько анклавов, где больше сторонников Винникотта или традиционные фрейдисты.
ДКГ: Изменился ли с годами Ваш способ работы с пациентами?
АФ: Я думаю, что у меня было много трансформаций в моем способе работы. Но я всегда меняю свой способ работы по некоторым предложениям, полученным от пациентов. Например, я помню, когда я был кляйнианцем — mon dieu — и я им был! Я вспомнил, как однажды пришла пациентка и сказала: «Теперь мне нужно серьезно поговорить с вами. Я не пойду на кушетку, но должна сказать Вам кое-что важное». И она сказала: «Когда я пришла в вашу консультационную комнату, у меня была одна проблема, проблема с моим женихом. Когда я выхожу после сеанса, у меня две проблемы: одна с женихом, а другая с Вами! Интересно, в чем моя ошибка?»
Это происходило в мой кляйнианский период, когда я имел обыкновение интерпретировать все в переносе.
[смеётся] Для меня это было важным сообщением, и оно позволило мне уйти от обязательства постоянно интерпретировать перенос. Для меня было важно подчеркнуть трансформации, произошедшие в ходе сеанса, а не постоянно интерпретировать то, что пациентка сказала о женихе непосредственно в переносе. И это заставило меня задуматься о том, что самое важное — работать над изменением отношений между пациенткой и женихом. Но в моем представлении женихом, без сомнения, был я. Но не было необходимости постоянно интерпретировать, что жених — это я, и постоянно всему давать интерпретацию переноса.
ДКГ: То есть, Вы хотите сказать, что она научила Вас тому, что иногда ей нужен жених, который был бы просто женихом?
АФ: Да, жених долгое время был просто женихом, но в моем разуме, на кухне, он был мной. Много лет спустя, когда я пришел к понятию поля [тут доктор Ферро достал бумагу и карандаш, чтобы показать мне, что находится в поле и за его пределами], в этот момент у меня возник другой образ мыслей: что жених был персонажем в поле. Итак, это жених, это отец пациента, это собака. Каждый персонаж находится в поле. Если пациент рассказывал о чем-то не из области, например: «Мой двоюродный брат в Буэнос-Айресе — убийца», то в каком-то смысле этого достаточно, чтобы поле расширилось. Поле расширяется, включая Буэнос-Айрес и убийцу. Я думаю, что убийца находится в консультационной комнате, и теперь мы должны приготовить и переварить убийцу. В течение длительного времени я не знаю, является ли убийца частью пациента или частью меня. Все является чем-то, что производится вместе: пациентом и мною самим.
Итак, мой способ осмысления поля заключается в том, что когда приходит пациент со своими внутренними группами, и аналитик открывает дверь со своими внутренними группами, — когда они встречаются, сразу происходит трансформация всего этого в поле со всеми его характеристиками. И когда на поле появляется новый персонаж, я не обязательно думаю, что этот персонаж приходит из прошлого или из внешней реальности. Я думаю, что в этот момент поле нуждается в этом персонаже извне, чтобы что-то выразить, естественно, всегда помня о том, что поле действует как GPS, оно постоянно дает нам знать, куда мы движемся, и что мы должны выбрать направление, соответствующее потребностям пациента или его внутреннему миру, а не нашим.
ДКГ: В своих работах вы используете термин «нарратология», это похоже?
АФ:«Нарратология» стала важна, потому что способ рассмотрения этой вымышленной правды или театральной сцены сильно отличается от классической психоаналитической опоры на непрерывные интерпретации аналитика. С другой стороны, мы похожи на режиссеров, чья роль состоит в том, чтобы способствовать развитию истории, используя персонажей, уже присутствующих в сцене, а также помогая пациенту создавать новых персонажей или даже сами представляя новых, чтобы облегчить развитие и трансформаций нарратива, который естественным образом оживает.
ДКГ: Я хотела бы задать несколько общих вопросов о практике в Италии. Как много пациентов Вы принимаете в день?
АФ: Сейчас все меньше и меньше, чем раньше. Я принимаю четыре, максимум пять пациентов. В остальные часы я предпочитаю заниматься супервизией. Но когда я был молод, у меня было много, много пациентов.
В течение многих лет у меня было десять пациентов в день. Это было очень утомительно. Теперь для меня пять пациентов - это просто уровень работы, который я могу выполнить.
ДКГ: Правда ли, что в Италии всего 700 психоаналитиков, и как это связано со взглядом людей в Италии на психоанализ и психоаналитическое лечение?
АФ: Что ж, 700 — это только число аналитиков, связанных с IPA, Международной психоаналитической ассоциацией, это только члены Итальянского психоаналитического общества. Помимо этого, есть много, много, много аналитиков в других обществах, не входящих в IPA. Это число тех, кто связаны с IPA. Многие другие связаны с другими школами.
ДКГ: А какие есть школы в Италии?
АФ: У нас их множество: реляционные, многие в когнитивной терапии, юнгианские, лакановские. Я думаю, что в Италии есть много разных точек зрения. Существует не только одна линия мышления. Например, если вы проводите анализ с кляйнианцем, никто не посоветует вам проводить супервизию с другим кляйнианцем. Я думаю, что у нас может быть 20% Фрейда, 10% Кляйн, 20% Биона, и после этого ещё и другие — винникоттовские и т. д.
ДКГ: Получается теория бионовского поля – не выбор итальянских психоаналитиков?
АФ: Не основной выбор, но для меня это один из самых важных компонентов, один из самых живых. Многие молодые люди также заинтересованы в нём. Теория поля используется в некоторых регионах, но не является преобладающей моделью в Италии.
ДКГ: Итак, за те несколько минут, которые у нас остались, у меня есть пара вещей, которые меня занимают. Я читала, что система здравоохранения в Италии похожа на французскую, что очень замечательно. Как работает международная система здравоохранения, когда люди платят взносы, и как люди в Италии это делают?
АФ: У нас есть отличная система для всех болезней, но не для психоанализа. Например, у нас есть бесплатные услуги по охране психического здоровья, где вы можете получить лекарства или фармакотерапию, но для терапевтических встреч — немного.
ДКГ: Они ограничивают количество сеансов, которые вы можете проводить?
АФ: Для анализа или длительной психотерапии приходится пользоваться частной страховкой, но не у многих есть страховка от психических расстройств. Но если у вас есть необходимость в пересадке сердца, это совершенно бесплатно для всех. И нет разницы между самым богатым и самым бедным человеком.
ДКГ: Значит, итальянцы не считают разум и тело связанными?
АФ: Есть элементарная психиатрия. Но не психотерапия или психоанализ. Психиатрия в Италии очень социальная и биологическая. Психоанализ не получает взносов от государства, за исключением для детей. Потому что для детей есть разные места. В Милане есть три или четыре места, где можно дети могут пройти психоанализ или психотерапию. Но только до 18 лет. После 18 лет для психоанализа или долгосрочной психотерапии вы должны оплачивать полную стоимость или использовать частную страховку. Я сейчас работаю только в частном порядке. Когда я был моложе, то работал в университетской системе, которая была связана с государственным психическим здоровьем.
ДКГ: Есть ли что-то еще, что Вы хотели бы сообщить о различиях, которые Вы видите в Италии по сравнению с другими странами?
АФ: Да, я удивляюсь и завидую свободе психоанализа в других местах, потому что в Европе у нас «это является психоанализом», и «это не является психоанализом». И именно эта ультраортодоксия не позволяет нам выполнять нашу работу по-настоящему творчески. В Штатах, например, я всегда обнаруживал больше мужества, свободы и различных способов мышления.
ДКГ: Значит, вы говорите, что в Европе существует авторитарная, ригидная структура того, чем является психоанализ?
АФ: Не авторитарная или ортодоксальная, но есть более сильное представление о том, что ортодоксально, а что нет. Я рассказал вам, например, историю с пациенткой, когда я лежал на кушетке. Теперь я могу позволить себе рассказать об этом в любом месте Европы без полемики. Но если бы я был молодым аналитиком, я бы столкнулся с другой ситуацией. Что-то типа «это правильно», «это не правильно».
ДКГ: Это то, как в настоящее время обучают в институтах, с этой ортодоксальностью?
АФ: Сейчас мы убеждаем коллег попытаться изменить это, и я надеюсь, что могут появиться новые идеи. Например, в Италии на самораскрытие смотрят как на дьявола.
ДКГ: Ну, судя по тому, что Вы мне сегодня рассказали, не похоже, что Вы разделяете это мнение.
АФ: Нисколько. У меня нет проблем с этим дьяволом. На самом деле он мне очень нравится!
ДКГ: Я верю в это! Спасибо, доктор Ферро, это была замечательная беседа, и мне не терпится поделиться ею с людьми.
Список литературы
Bion, W. R. (1965). Transformations. London, UK: Tavistock.
Ferro, A. (2006). Psychoanalysis as therapy and storytelling . New York, NY: Routledge.
Перевод с английского Титов М.Д. (2022)
Bion, W. R. (1965). Transformations. London, UK: Tavistock.
Ferro, A. (2006). Psychoanalysis as therapy and storytelling . New York, NY: Routledge.
Перевод с английского Титов М.Д. (2022)