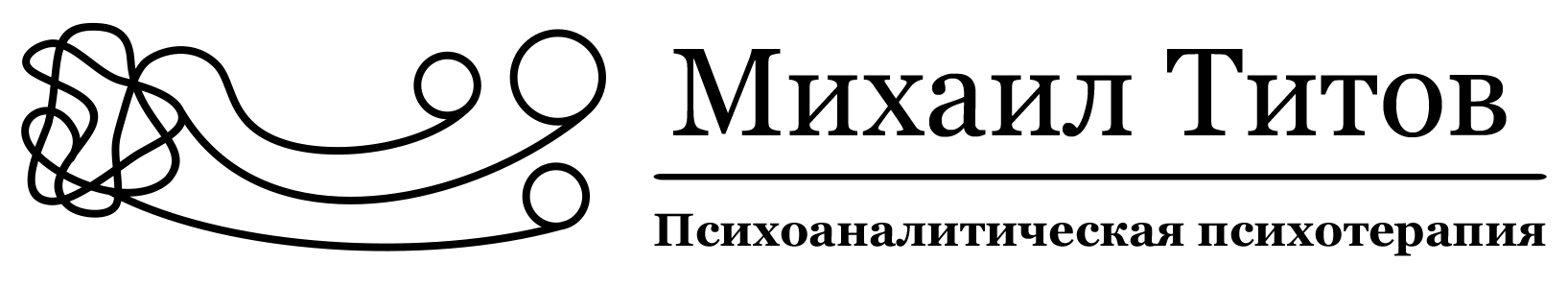Мишель де М'Юзан
Введение в теорию первичного интервью (2010)
Глава из книги "Permanent Disquiet: Psychoanalysis and the Transitional Subject"
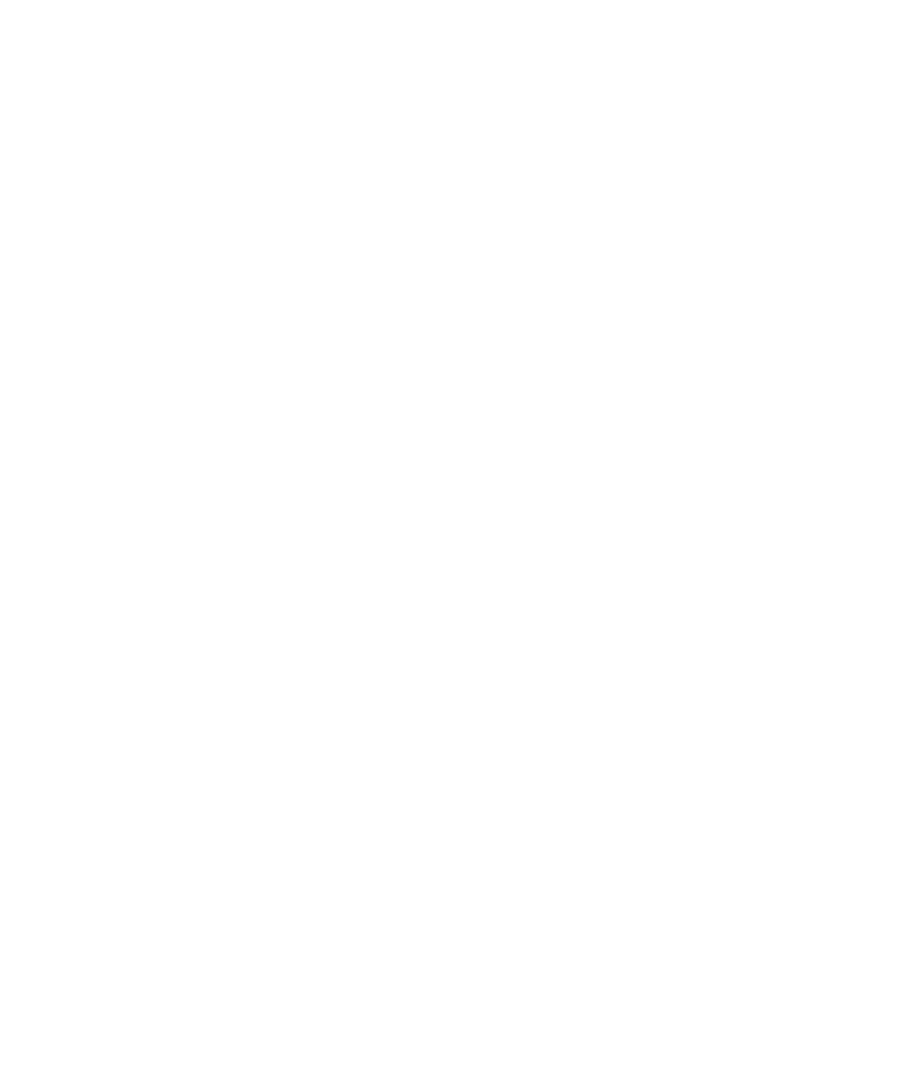
Приходит мужчина. Я ничего о нем не знаю. Я не хочу ничего о нем знать.
Так бывает не всегда. Я сожалею об этом. Но что я могу поделать?
Но откуда он пришёл, этот человек, который пришел увидеть меня, какого меня? Кого во мне? Чего он хочет от меня, этот человек, словно это драма или приключение? Если я его забуду, ничего не будет освещено и, подобно муравью, я буду бесконечно царапать землю; забвение придет. Я больше не буду знать, что мы представляем собой единое слитое существо, максимально приближенное к тому, какими мы были, когда были.
Так бывает не всегда. Я сожалею об этом. Но что я могу поделать?
Но откуда он пришёл, этот человек, который пришел увидеть меня, какого меня? Кого во мне? Чего он хочет от меня, этот человек, словно это драма или приключение? Если я его забуду, ничего не будет освещено и, подобно муравью, я буду бесконечно царапать землю; забвение придет. Я больше не буду знать, что мы представляем собой единое слитое существо, максимально приближенное к тому, какими мы были, когда были.
Соображения, которые я собираюсь представить о первичных интервью психоаналитического лечения, являются результатом очень большого опыта (более шестидесяти лет), приобретенного в основном в частной практике, но также и в так называемом «больничном» сеттинге: в Консультационном центр Жана Фавро Парижского института психоанализа, в Центре психоанализа и психотерапии в 13-м округе Парижа, которым в то время руководил Ален Жибо, а также в больнице Биша, в отделении гастроэнтерологии, где важное место занимала «психосоматика».
Принципы, которые сегодня руководят первичными интервью остаются, по большей части теми, которые были приняты на начальных этапах моего опыта. Некоторые из этих принципов - например, отказ от внушения - были сформулированы Фрейдом (1913). Однако примечательно что то, как психоаналитики, принадлежащие к одной и той же школе, проводят предварительное интервью, может значительно различаться.Вот почему важно начать с рассмотрения задействованных теоретических основ.
Во-первых, следует подчеркнуть, что консультация психоаналитика имеет свою строгую специфику. Другими словами, она коренным образом отличается от консультации психиатра, который за основу берет медицинскую консультацию. Вот почему в психоаналитическом интервью личность аналитика должна, как мы знаем, максимально стереться с целью сохранения места и роли аналитика как так называемого объекта переноса, который пациент бессознательно в нем видит. так называемый объект переноса, который пациент бессознательно видит в себе. И даже когда эта модель не складывается спонтанно и в достаточной степени, аналитик должен соблюдать необходимость не препятствовать ее развитию. Напомним (доктрина и теория требуют от нас этого), что при условии тщательного проведения, цель первичного интервью состоит в том, чтобы дать пациенту все шансы смехотворно искаженно отреагировать, но не на другого в реальности, а на объект, который пациент в него проецирует, на призрака, фактически, имаго. Другими словами, интервью «пронизано» переносом. Другой, о котором идет речь, является частью вопроса о «третичности», о которой говорит Ален Жибо. Все это хорошо известно, но я тем не менее приведу иллюстрацию.
Женщина-пациентка в возрасте около 50 лет на первичном интервью рассказала о тяжелых страданиях, которые возникли у неё в результате эмоциональной зависимости от подруги. Примечательно, что она называла эту подругу по имени, я назову ее Мэри. Пораженный этой подробностью, я сказал ей: «Вы отдаете Мэри в мои объятия». Это была «дикая» интерпретация и, как некоторые сказали бы, преждевременная на интервью, которое выявило как перенос, так и бессознательную гомосексуальность. Это вступление быстро проложило путь к последовавшему за этим плодотворному анализу. Если я сообщаю об этом радикальном обстоятельстве, то потому, что настаиваю на своей позиции, а именно проведении одного или максимум двух первичных интервью и я не согласен с Жаном-Люком Донне, с которым мы обсуждали эту тему более десяти лет назад (Donnet & de M'Uzan, 1998). Имея то же культурное происхождение, что и я, Жан-Люк Донне утверждал, что «первая встреча не является аналитической», и выступал (за исключением «естественных анализандов») за увеличении первичных интервью (четыре или даже шесть); в этом отношении его позиция была довольно близко к фрейдовской идее «предварительного лечения» (Freud, 1913, стр. 124).
Ясно, что это вопрос того, что можно было бы назвать стратегией первичного интервью; интервью в некоторых отношениях сравнимо с игрой в шахматы до того, как будут задействованы тактические маневры.
Вопреки моей инициативе в случае с Мэри, «ключевым» стратегическим инструментом, имеющимся в распоряжении аналитика, является молчание, раскрывающее аналитика объекту переноса. И я склонен думать, что именно контрпереносные реакции препятствуют реализации данного технического воздействия.
Техническая мера, связанная с молчанием, заключается в том, чтобы придать новый импульс ассоциативному процессу, просто приняв то, что пациент сказал в вопросительной или восклицательной манере, которую я комбинирую с интерпретацией защиты, а не содержания, позволяющее пациенту продолжать говорить. Таким образом, избегая интерпретации содержания (что я, тем не менее, сделал в случае с Мэри), я раскрываю способ функционирования психического аппарата, без риска внедрения в психическое пространство пациента и переноса содержания, которого раньше не было, эта функция подобна «психическим кистам». Таким образом, мы реагируем на требования этического порядка. Я бы добавил, что молчание аналитика играет определенную роль в создании атмосферы странности, что является признаком того, что задействована проблематика идентичности. Здесь мы затрагиваем власть аналитика, которая весьма значительна; более того, она находится на пределе допустимого. Не говоря уже о том факте, что с самого начала устанавливается роль соблазнения и устанавливается серьезно, поскольку техническая строгость, о которой я говорю, подвергает аналитика очень раннему вписыванию инфантильного прошлого в настоящую ситуацию, что не может ускользнуть от внимания аналитика, осознающего опасности, которые можно легко вообразить. Вместо того чтобы думать, что он или она защищены от риска соблазнения другого, не лучше ли аналитику признать его, осознать всю тяжесть потенциального желания это сделать? Разве мы здесь не имеем дело с карикатурой на то, что происходит в любых межличностных отношениях? Можно быть аналитиком, но аналитик ещё и человек! Знание того, что техническая строгость, которую я защищаю, даже на первичном интервью, парадоксальным образом способна создать атмосферу соблазнения, должно позволить взять на себя ответственность за то, что мы проводим политику «балансирования на грани».
Проведенное в соответствии с принципами, которые я только что изложил – даже если это не всегда возможно – первичное интервью приобретает характеристики странной и невыразимой встречи, которая ностальгически вписывается в память пациента, а иногда и аналитика. Попутно и в скобках мы можем задаться вопросом, не играет ли роль возможное бессознательное соучастие аналитика в возникновении ситуации, в которой некоторые анализы завершаются, а другие бесконечны? Как бы то ни было, встреча главных героев в идеале принимает форму мизансцены персонажей, а не людей, как на сцене театра. И когда интервью продолжает развиваться таким образом, что, к сожалению, не всегда так, мы видим то, что я называю трансляцией идентичности, утверждающей себя, когда тень имаго покрывает тень реальных людей. Аналитик сопротивляется этому более или менее бессознательно, потому что найденное нарциссическое решение, созданное пациентом в ответ на первоначальную драму, было эффективным в течение длительного времени. Это решение, реактуализированное в переносе, как мы знаем, выражается через драмы с участием персонажей, но также, в первую очередь, в том, как функционирует психический аппарат в соответствии с его механикой, если можно так выразиться. Это существенный момент, поскольку содержание само по себе более или менее произвольно и может заменять друг друга в метонимическом и, в лучшем случае, символическом стиле. В результате слушания и интервенций аналитика, которые до сих пор были почти естественно ориентированы на историю пациента, вместо этого обращаются к ее движущим силам, что способствует обострению атмосферы странности, о которой я упоминал ранее. Внимание аналитика, все еще удерживаемое драмами, влияющими на анализанда, теперь обращается к проблематике идентичности. В некоторых отношениях так открывается новый путь для анализа этих моментов или этих случаев, когда решающим является неопределенный характер границ идентичности. Эта ситуация встречается гораздо чаще, чем можно было бы представить, и требует стратегического выбора, при котором внимание, сосредоточенное на отношениях между сексуальным и vital-identital (то есть между психосексуальным порядком и самосохранением), теперь должно быть направлено на последний, vital-identital. При самой первой встрече с пациентом аналитик, в идеале, должен уметь распознавать переговоры между сексуальным и vital-identital, ибо от этого зависит будущее анализа.
Я наблюдал такую же драматическую эволюцию анализов, проведенных некоторыми очень опытными коллегами на основе диагноза обсессивного невроза. Один из них не осознавал порядок, который я называю vital-identital, о котором говорилось в предыдущей главе. В этом случае инструменты управления ситуацией вдоль обсессивных линий оказались неэффективными. Экономический аспект начал иметь большое значение. Когда анально-садистическая регрессия либидо начала преобладать, ситуация развивалась и стала частью регистра идентичности самосохранения, а именно vital-identital. Психосоматически подготовленные аналитики знакомы с этой эволюцией.
Аналитику, несмотря на то, что можно себе представить, далеко не всегда приходится иметь дело с болезненными вещами, принадлежащими к психосексуальному порядку. Я заметил определенное развитие своих взглядов как на само аналитическое лечение, так и на его начало. Вкратце, в то время как мое внимание первоначально было сосредоточено на форме, принимаемой объектными отношениями, я заметил, что эти отношения значительно сдвигаются в сторону проблематики идентичности, в сторону признания не столько привычной «ничьей земли», сколько «земля каждого», при которых исчезают границы идентичности главных героев. Поэтому для меня не будет неожиданностью утверждение, что доступ к феноменам деперсонализации*, а также способность их выносить, является признаком фундаментальной психической предрасположенности, необходимой для психоаналитического призвания.
Наша манера интервенций не является фиксированной; она развивается в свете опыта. Однажды пришла пациентка, ошеломленная и колеблющаяся. Она пробормотала: «Я дыра». Было время, когда, услышав эти слова в рамках специфически психосексуального регистра, я бы ответил: «У меня есть дыра». В тот день, о котором идет речь – совсем недавно – я ответил: «У дыры есть края». В то время аналитики все еще думали об объединяющих способностях предсознательного, но открывались новые перспективы.
Я думал, что закончу этими строками, чувствуя, что теперь я изложил наиболее решающие факторы для аналитика, когда он формулирует показания. Но это означало бы упустить такие рутинные вопросы, как обращения внимания на прямые вопросы пациента, чтобы иметь дополнительные аргументы в поддержку решения. И поэтому, почти отказавшись от этой странной идентичности и соскользнув в идентичность «доктора», аналитик несколько систематично просит пациента рассказать о ночном сне и воспоминаниях из раннего детства, которые являются признаками способностей выполнения аналитической работы.
Анализ и, конечно же, первичное интервью, развивается с течением времени вместе с личностью психоаналитика, что неудивительно. Эта странная популяция не обладает одинаковыми чувствами. Играет ли это роль в проведении первичного интервью и что из него последует? Я не могу не вспомнить то время, когда, будучи молодым аналитиком, проходящим тренинг, я встретил ключевые психоаналитические фигуры Франции той эпохи. Среди них я вспоминаю Парчемини, Шлюмберже и Джона Леуба, которые имели другое отношение к культуре. Влияло ли это на их технику? Я не знаю. Но я все еще прихожу в растерянность, вспоминая одного из пациентов Парчемини, который в начале своего анализа, думаю из провокации, читал в течение всего сеанса строфы Горация на латыни. В какой-то момент он остановился и Парчемини продолжил чтение, также на латыни. В тот день это положило конец сопротивлению пациента.
Принципы, которые сегодня руководят первичными интервью остаются, по большей части теми, которые были приняты на начальных этапах моего опыта. Некоторые из этих принципов - например, отказ от внушения - были сформулированы Фрейдом (1913). Однако примечательно что то, как психоаналитики, принадлежащие к одной и той же школе, проводят предварительное интервью, может значительно различаться.Вот почему важно начать с рассмотрения задействованных теоретических основ.
Во-первых, следует подчеркнуть, что консультация психоаналитика имеет свою строгую специфику. Другими словами, она коренным образом отличается от консультации психиатра, который за основу берет медицинскую консультацию. Вот почему в психоаналитическом интервью личность аналитика должна, как мы знаем, максимально стереться с целью сохранения места и роли аналитика как так называемого объекта переноса, который пациент бессознательно в нем видит. так называемый объект переноса, который пациент бессознательно видит в себе. И даже когда эта модель не складывается спонтанно и в достаточной степени, аналитик должен соблюдать необходимость не препятствовать ее развитию. Напомним (доктрина и теория требуют от нас этого), что при условии тщательного проведения, цель первичного интервью состоит в том, чтобы дать пациенту все шансы смехотворно искаженно отреагировать, но не на другого в реальности, а на объект, который пациент в него проецирует, на призрака, фактически, имаго. Другими словами, интервью «пронизано» переносом. Другой, о котором идет речь, является частью вопроса о «третичности», о которой говорит Ален Жибо. Все это хорошо известно, но я тем не менее приведу иллюстрацию.
Женщина-пациентка в возрасте около 50 лет на первичном интервью рассказала о тяжелых страданиях, которые возникли у неё в результате эмоциональной зависимости от подруги. Примечательно, что она называла эту подругу по имени, я назову ее Мэри. Пораженный этой подробностью, я сказал ей: «Вы отдаете Мэри в мои объятия». Это была «дикая» интерпретация и, как некоторые сказали бы, преждевременная на интервью, которое выявило как перенос, так и бессознательную гомосексуальность. Это вступление быстро проложило путь к последовавшему за этим плодотворному анализу. Если я сообщаю об этом радикальном обстоятельстве, то потому, что настаиваю на своей позиции, а именно проведении одного или максимум двух первичных интервью и я не согласен с Жаном-Люком Донне, с которым мы обсуждали эту тему более десяти лет назад (Donnet & de M'Uzan, 1998). Имея то же культурное происхождение, что и я, Жан-Люк Донне утверждал, что «первая встреча не является аналитической», и выступал (за исключением «естественных анализандов») за увеличении первичных интервью (четыре или даже шесть); в этом отношении его позиция была довольно близко к фрейдовской идее «предварительного лечения» (Freud, 1913, стр. 124).
Ясно, что это вопрос того, что можно было бы назвать стратегией первичного интервью; интервью в некоторых отношениях сравнимо с игрой в шахматы до того, как будут задействованы тактические маневры.
Вопреки моей инициативе в случае с Мэри, «ключевым» стратегическим инструментом, имеющимся в распоряжении аналитика, является молчание, раскрывающее аналитика объекту переноса. И я склонен думать, что именно контрпереносные реакции препятствуют реализации данного технического воздействия.
Техническая мера, связанная с молчанием, заключается в том, чтобы придать новый импульс ассоциативному процессу, просто приняв то, что пациент сказал в вопросительной или восклицательной манере, которую я комбинирую с интерпретацией защиты, а не содержания, позволяющее пациенту продолжать говорить. Таким образом, избегая интерпретации содержания (что я, тем не менее, сделал в случае с Мэри), я раскрываю способ функционирования психического аппарата, без риска внедрения в психическое пространство пациента и переноса содержания, которого раньше не было, эта функция подобна «психическим кистам». Таким образом, мы реагируем на требования этического порядка. Я бы добавил, что молчание аналитика играет определенную роль в создании атмосферы странности, что является признаком того, что задействована проблематика идентичности. Здесь мы затрагиваем власть аналитика, которая весьма значительна; более того, она находится на пределе допустимого. Не говоря уже о том факте, что с самого начала устанавливается роль соблазнения и устанавливается серьезно, поскольку техническая строгость, о которой я говорю, подвергает аналитика очень раннему вписыванию инфантильного прошлого в настоящую ситуацию, что не может ускользнуть от внимания аналитика, осознающего опасности, которые можно легко вообразить. Вместо того чтобы думать, что он или она защищены от риска соблазнения другого, не лучше ли аналитику признать его, осознать всю тяжесть потенциального желания это сделать? Разве мы здесь не имеем дело с карикатурой на то, что происходит в любых межличностных отношениях? Можно быть аналитиком, но аналитик ещё и человек! Знание того, что техническая строгость, которую я защищаю, даже на первичном интервью, парадоксальным образом способна создать атмосферу соблазнения, должно позволить взять на себя ответственность за то, что мы проводим политику «балансирования на грани».
Проведенное в соответствии с принципами, которые я только что изложил – даже если это не всегда возможно – первичное интервью приобретает характеристики странной и невыразимой встречи, которая ностальгически вписывается в память пациента, а иногда и аналитика. Попутно и в скобках мы можем задаться вопросом, не играет ли роль возможное бессознательное соучастие аналитика в возникновении ситуации, в которой некоторые анализы завершаются, а другие бесконечны? Как бы то ни было, встреча главных героев в идеале принимает форму мизансцены персонажей, а не людей, как на сцене театра. И когда интервью продолжает развиваться таким образом, что, к сожалению, не всегда так, мы видим то, что я называю трансляцией идентичности, утверждающей себя, когда тень имаго покрывает тень реальных людей. Аналитик сопротивляется этому более или менее бессознательно, потому что найденное нарциссическое решение, созданное пациентом в ответ на первоначальную драму, было эффективным в течение длительного времени. Это решение, реактуализированное в переносе, как мы знаем, выражается через драмы с участием персонажей, но также, в первую очередь, в том, как функционирует психический аппарат в соответствии с его механикой, если можно так выразиться. Это существенный момент, поскольку содержание само по себе более или менее произвольно и может заменять друг друга в метонимическом и, в лучшем случае, символическом стиле. В результате слушания и интервенций аналитика, которые до сих пор были почти естественно ориентированы на историю пациента, вместо этого обращаются к ее движущим силам, что способствует обострению атмосферы странности, о которой я упоминал ранее. Внимание аналитика, все еще удерживаемое драмами, влияющими на анализанда, теперь обращается к проблематике идентичности. В некоторых отношениях так открывается новый путь для анализа этих моментов или этих случаев, когда решающим является неопределенный характер границ идентичности. Эта ситуация встречается гораздо чаще, чем можно было бы представить, и требует стратегического выбора, при котором внимание, сосредоточенное на отношениях между сексуальным и vital-identital (то есть между психосексуальным порядком и самосохранением), теперь должно быть направлено на последний, vital-identital. При самой первой встрече с пациентом аналитик, в идеале, должен уметь распознавать переговоры между сексуальным и vital-identital, ибо от этого зависит будущее анализа.
Я наблюдал такую же драматическую эволюцию анализов, проведенных некоторыми очень опытными коллегами на основе диагноза обсессивного невроза. Один из них не осознавал порядок, который я называю vital-identital, о котором говорилось в предыдущей главе. В этом случае инструменты управления ситуацией вдоль обсессивных линий оказались неэффективными. Экономический аспект начал иметь большое значение. Когда анально-садистическая регрессия либидо начала преобладать, ситуация развивалась и стала частью регистра идентичности самосохранения, а именно vital-identital. Психосоматически подготовленные аналитики знакомы с этой эволюцией.
Аналитику, несмотря на то, что можно себе представить, далеко не всегда приходится иметь дело с болезненными вещами, принадлежащими к психосексуальному порядку. Я заметил определенное развитие своих взглядов как на само аналитическое лечение, так и на его начало. Вкратце, в то время как мое внимание первоначально было сосредоточено на форме, принимаемой объектными отношениями, я заметил, что эти отношения значительно сдвигаются в сторону проблематики идентичности, в сторону признания не столько привычной «ничьей земли», сколько «земля каждого», при которых исчезают границы идентичности главных героев. Поэтому для меня не будет неожиданностью утверждение, что доступ к феноменам деперсонализации*, а также способность их выносить, является признаком фундаментальной психической предрасположенности, необходимой для психоаналитического призвания.
Наша манера интервенций не является фиксированной; она развивается в свете опыта. Однажды пришла пациентка, ошеломленная и колеблющаяся. Она пробормотала: «Я дыра». Было время, когда, услышав эти слова в рамках специфически психосексуального регистра, я бы ответил: «У меня есть дыра». В тот день, о котором идет речь – совсем недавно – я ответил: «У дыры есть края». В то время аналитики все еще думали об объединяющих способностях предсознательного, но открывались новые перспективы.
Я думал, что закончу этими строками, чувствуя, что теперь я изложил наиболее решающие факторы для аналитика, когда он формулирует показания. Но это означало бы упустить такие рутинные вопросы, как обращения внимания на прямые вопросы пациента, чтобы иметь дополнительные аргументы в поддержку решения. И поэтому, почти отказавшись от этой странной идентичности и соскользнув в идентичность «доктора», аналитик несколько систематично просит пациента рассказать о ночном сне и воспоминаниях из раннего детства, которые являются признаками способностей выполнения аналитической работы.
Анализ и, конечно же, первичное интервью, развивается с течением времени вместе с личностью психоаналитика, что неудивительно. Эта странная популяция не обладает одинаковыми чувствами. Играет ли это роль в проведении первичного интервью и что из него последует? Я не могу не вспомнить то время, когда, будучи молодым аналитиком, проходящим тренинг, я встретил ключевые психоаналитические фигуры Франции той эпохи. Среди них я вспоминаю Парчемини, Шлюмберже и Джона Леуба, которые имели другое отношение к культуре. Влияло ли это на их технику? Я не знаю. Но я все еще прихожу в растерянность, вспоминая одного из пациентов Парчемини, который в начале своего анализа, думаю из провокации, читал в течение всего сеанса строфы Горация на латыни. В какой-то момент он остановился и Парчемини продолжил чтение, также на латыни. В тот день это положило конец сопротивлению пациента.
Из словаря понятий:
Vital-identital - это фундаментальная концепция теории де М'Юзана и, действительно, это один из его революционных вкладов. Она соответствует порядку идентичности, который контрастирует с функционированием сексуального влечения (связанного с объектами и нарциссизмом). Относительно этого порядка можно было бы легко говорить о реальной программе жизни и, следовательно, о смерти в конце. Его частью является классическое понятие самосохранения. Ментализация недостаточна вдоль этой оси идентичности. «Невротическое» измерение не задействовано. Следовательно, мы оказываемся в центре актуальных неврозов, равно как и актуальных психозов. Термин влечение не занимает своего места в этом порядке. Проведя четкое различие между порядком «vital-identital» и порядком психосексуальности, де М'Юзан объясняет, как аналитик должен знать как прибегнуть к переговорам* между этими двумя осями таким образом, чтобы помочь пациенту найти свой путь назад к психосексуальному порядку и избегая соматозов или актуальных неврозов, или даже актуальных психозов. Де М'Юзан создал неологизм «vital-identital», во-первых, как отголосок понятия сексуального, разработанного Жаном Лапланшем, чьи взгляды на этот предмет он разделяет, и, во-вторых, чтобы отличить его от понятия идентичности, относящегося к философская область. (См. Aux confins de l'identité [2005a] и «Reconsiderations and New developments in Psychoanalysis» [2011, p. 24ff.; 201 3b, p. 192ff.]; см. также Gagnebin & Milly [2012, p. 182]. )
Примечания
2. Примечание переводчика: По-французски “Qui de moi? " (т.е. "Кто из меня?"). По-другому - "Какая часть меня?"
Vital-identital - это фундаментальная концепция теории де М'Юзана и, действительно, это один из его революционных вкладов. Она соответствует порядку идентичности, который контрастирует с функционированием сексуального влечения (связанного с объектами и нарциссизмом). Относительно этого порядка можно было бы легко говорить о реальной программе жизни и, следовательно, о смерти в конце. Его частью является классическое понятие самосохранения. Ментализация недостаточна вдоль этой оси идентичности. «Невротическое» измерение не задействовано. Следовательно, мы оказываемся в центре актуальных неврозов, равно как и актуальных психозов. Термин влечение не занимает своего места в этом порядке. Проведя четкое различие между порядком «vital-identital» и порядком психосексуальности, де М'Юзан объясняет, как аналитик должен знать как прибегнуть к переговорам* между этими двумя осями таким образом, чтобы помочь пациенту найти свой путь назад к психосексуальному порядку и избегая соматозов или актуальных неврозов, или даже актуальных психозов. Де М'Юзан создал неологизм «vital-identital», во-первых, как отголосок понятия сексуального, разработанного Жаном Лапланшем, чьи взгляды на этот предмет он разделяет, и, во-вторых, чтобы отличить его от понятия идентичности, относящегося к философская область. (См. Aux confins de l'identité [2005a] и «Reconsiderations and New developments in Psychoanalysis» [2011, p. 24ff.; 201 3b, p. 192ff.]; см. также Gagnebin & Milly [2012, p. 182]. )
Примечания
- Эта глава была опубликована в L'Inquiétude permanente (de M'Uzan, 2015a).
2. Примечание переводчика: По-французски “Qui de moi? " (т.е. "Кто из меня?"). По-другому - "Какая часть меня?"
Перевод с английского Титов М.Д.
Другие переводы