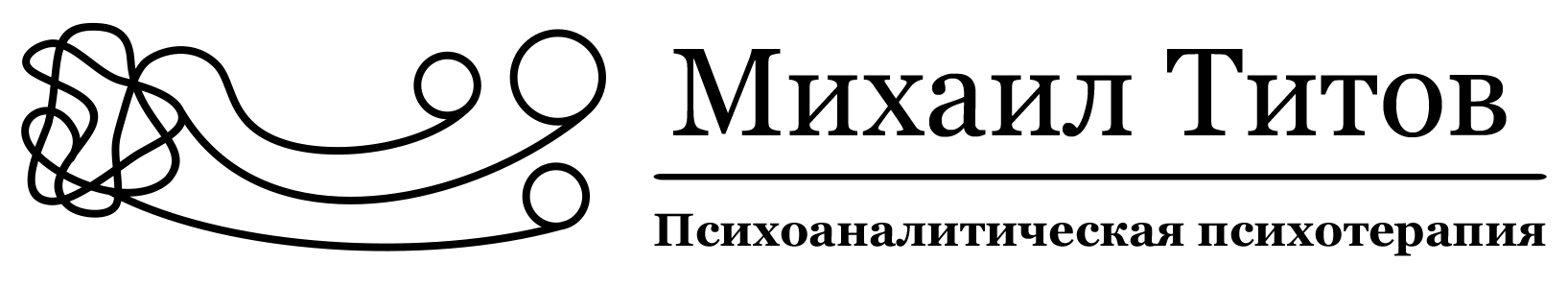Эвелин Кестемберг
Ну, так что нового?
Чему может нас научить «первичное» интервью
Эвелин Кестемберг (1918-1989) — клинический психолог и тренинговый аналитик Парижского психоаналитического общества (SPP).
Вместе со своим мужем, Жаном Кестембергом, она основала Центр психоанализа и психотерапии в Париже.
Вместе со своим мужем, Жаном Кестембергом, она основала Центр психоанализа и психотерапии в Париже.
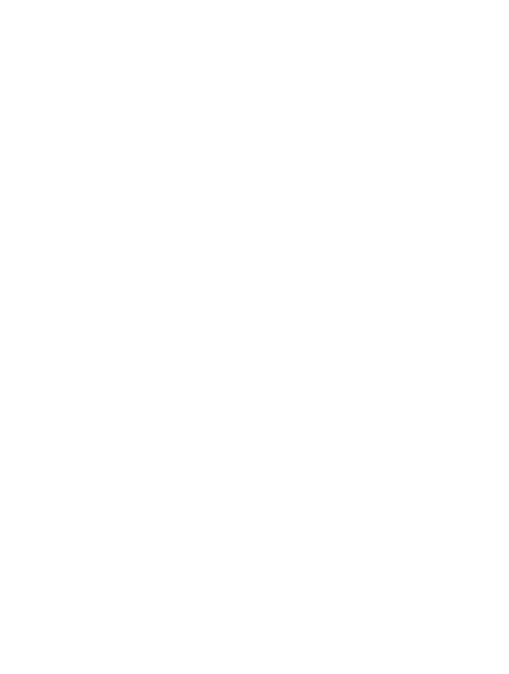
На дно твое нырнуть - Ад или Рай - едино! -
В неведомого глубь - чтоб новое обресть!
Бодлер «Цветы зла»
Само название этой главы [1] проясняет общее направление, которому я намерена следовать в этом обсуждении [2]. У меня нет желания обрисовывать в общих чертах какую-то теорию и технику начального интервью, достоинства которого являются относительно недавним открытием в такой степени, что способ его разворачивания и технические аспекты теперь являются частью различных университетских учебных программ, но я хотела бы исследовать его уникальный или, по крайней мере, в высшей степени переходный характер, тот, который является неповторимым и, в лучшем случае, не повторяющимся.
Как можно догадаться, это «первичное» интервью на самом деле никогда не бывает первым. Однако в некоторых случаях оно может быть «начальным» в том смысле, что из него выходит что-то новое: в первую очередь, конечно, для пациента, — и в этом отношении оно несомненно окажет ему некоторую терапевтическую помощь, но, возможно, и для нас, поскольку оно может помочь нам увидеть вещи в другом свете или услышать их другим ухом и, следовательно, узнать что-то, чего мы еще не знали. В этом смысле оно, без сомнения, будет полезно на дидактическом уровне.
Конечно, каждое из этих интервью по определению является новым для обоих участников. До этого момента ни один из них не встречался и не слушал другого. Тем не менее, эта новизна вскоре де-факто отойдёт на задний план, когда у обоих действующих лиц возобладает обычный способ обсуждения клинических вопросов – это может обнадёжить, но имеет тенденцию затуманивать проблемы. После более чем тридцати лет клинической работы я бы сказала, что если мы начнем с поиска нозографических [3] ориентиров или априорных доказательств нашей собственной теоретической точки зрения на то, что говорится или понимается, очень легко вообще ничего не узнать из этих первичных интервью. С другой стороны, если мы к этому готовы, мы всегда можем найти какой-то новый элемент, который заинтересует и, возможно, даже нас удивит.
Как я уже сказала, это интервью на самом деле не ‘первое’. Тем не менее, усилия, которые мы в него вкладываем, способны придать ему характер своего рода нового начала, открывая новый взгляд на всю ситуацию.
Как бы мы могли описать обычный ход событий? По моему собственному опыту за последние десять лет, пациенты записываются ко мне на прием в Клинику психоанализа и психотерапии. Подавляющее большинство из них было направлено консультирующим психиатром (группа А), их семейным врачом (группа Б), друзьями, которые знают о существовании клиники, или из-за некоторой информации, которую они сами почерпнули из источников, которые уже не могут вспомнить (группа С). Для тех, кто принадлежит к группам А или Б, само собой разумеется, что интервью, которое у них будет со мной, определенно не первое. Они уже довольно подробно обсудили свои трудности и симптомы с лечащим их врачом и часто действительно получали некоторое облегчение от дистресса и беспокойства, которые сопровождают эти проблемы, поскольку они влияют на их жизнь и их мыслительные процессы. Мы вполне могли бы ожидать, что это не относится к группе С, но это не совсем так, потому что вскоре мы понимаем, что они уже обсудили свои проблемы и своё горе с друзьями или, по крайней мере, проговорили о них у себя в голове. Таким образом, даже когда пациенты консультируются во время кризиса, они уже «подготовили» в своей голове беседы, которые мы будем с ними вести.
Поэтому было бы вполне правомерно предположить, что это «первичное» интервью состоит из трех фаз: «до», «во время» и «после». Таким образом, каждый из этих этапов следует обдумывать и оценивать с точки зрения любого аспекта новизны, который он может содержать.
Возможно, мне следует разъяснить, почему я считаю, что открытие чего-то нового в этих интервью имеет такое большое значение. Возможно, для ответа на этот конкретный вопрос потребовалась бы целая книга, или, возможно, его можно было бы рассмотреть всего в нескольких строчках. В настоящей главе я, конечно, постараюсь дать адекватный ответ на следующих нескольких страницах.
Я полагаю, что читатель согласится со мной в том, что повторяющиеся аспекты психического функционирования сами по себе несут не только элемент удовольствия, но и влияние на это функционирование, которое может оказаться катастрофическим. Поэтому я бы сказала, что возможность смягчить или ослабить это повторение даже на короткое время, временно, во время интервью, сама по себе представляет интерес и может даже нести проблеск надежды. Это надежда, которая присутствует в каждом пациенте, приходящем на интервью, и наша задача состоит в том, чтобы использовать всю чувствительность и точность, на которые мы способны, чтобы попытаться уловить потенциал для изменения, заключенных в этой надежде.
Как сказал Анжелерг на одном из предыдущих Cимпозиумов [4], у нас есть некоторые основания утверждать, что противоположность депрессии — выжидательно смотреть в будущее; кроме того, состояние, исход и обращение с депрессией со стороны пациентов и тех, кто их лечит, можно рассматривать как жизненно важные для исхода психической дезорганизации или недостатка организации. Если это так, то, я думаю, мы сразу же можем увидеть, насколько важен этот «момент надежды», который всегда является прелюдией к первичному интервью; иногда, действительно, он настолько важен, что его последствия можно почувствовать во время проведения интервью, то есть в фазах «во время» и «после».
Итак, я предлагаю рассмотреть под этими тремя заголовками («до», «во время» и «после») содержание, движение (или инерцию) и результат этого конкретного интервью, которое должно отличаться от того, что было до и от того, что произойдёт дальше.
Как можно догадаться, это «первичное» интервью на самом деле никогда не бывает первым. Однако в некоторых случаях оно может быть «начальным» в том смысле, что из него выходит что-то новое: в первую очередь, конечно, для пациента, — и в этом отношении оно несомненно окажет ему некоторую терапевтическую помощь, но, возможно, и для нас, поскольку оно может помочь нам увидеть вещи в другом свете или услышать их другим ухом и, следовательно, узнать что-то, чего мы еще не знали. В этом смысле оно, без сомнения, будет полезно на дидактическом уровне.
Конечно, каждое из этих интервью по определению является новым для обоих участников. До этого момента ни один из них не встречался и не слушал другого. Тем не менее, эта новизна вскоре де-факто отойдёт на задний план, когда у обоих действующих лиц возобладает обычный способ обсуждения клинических вопросов – это может обнадёжить, но имеет тенденцию затуманивать проблемы. После более чем тридцати лет клинической работы я бы сказала, что если мы начнем с поиска нозографических [3] ориентиров или априорных доказательств нашей собственной теоретической точки зрения на то, что говорится или понимается, очень легко вообще ничего не узнать из этих первичных интервью. С другой стороны, если мы к этому готовы, мы всегда можем найти какой-то новый элемент, который заинтересует и, возможно, даже нас удивит.
Как я уже сказала, это интервью на самом деле не ‘первое’. Тем не менее, усилия, которые мы в него вкладываем, способны придать ему характер своего рода нового начала, открывая новый взгляд на всю ситуацию.
Как бы мы могли описать обычный ход событий? По моему собственному опыту за последние десять лет, пациенты записываются ко мне на прием в Клинику психоанализа и психотерапии. Подавляющее большинство из них было направлено консультирующим психиатром (группа А), их семейным врачом (группа Б), друзьями, которые знают о существовании клиники, или из-за некоторой информации, которую они сами почерпнули из источников, которые уже не могут вспомнить (группа С). Для тех, кто принадлежит к группам А или Б, само собой разумеется, что интервью, которое у них будет со мной, определенно не первое. Они уже довольно подробно обсудили свои трудности и симптомы с лечащим их врачом и часто действительно получали некоторое облегчение от дистресса и беспокойства, которые сопровождают эти проблемы, поскольку они влияют на их жизнь и их мыслительные процессы. Мы вполне могли бы ожидать, что это не относится к группе С, но это не совсем так, потому что вскоре мы понимаем, что они уже обсудили свои проблемы и своё горе с друзьями или, по крайней мере, проговорили о них у себя в голове. Таким образом, даже когда пациенты консультируются во время кризиса, они уже «подготовили» в своей голове беседы, которые мы будем с ними вести.
Поэтому было бы вполне правомерно предположить, что это «первичное» интервью состоит из трех фаз: «до», «во время» и «после». Таким образом, каждый из этих этапов следует обдумывать и оценивать с точки зрения любого аспекта новизны, который он может содержать.
Возможно, мне следует разъяснить, почему я считаю, что открытие чего-то нового в этих интервью имеет такое большое значение. Возможно, для ответа на этот конкретный вопрос потребовалась бы целая книга, или, возможно, его можно было бы рассмотреть всего в нескольких строчках. В настоящей главе я, конечно, постараюсь дать адекватный ответ на следующих нескольких страницах.
Я полагаю, что читатель согласится со мной в том, что повторяющиеся аспекты психического функционирования сами по себе несут не только элемент удовольствия, но и влияние на это функционирование, которое может оказаться катастрофическим. Поэтому я бы сказала, что возможность смягчить или ослабить это повторение даже на короткое время, временно, во время интервью, сама по себе представляет интерес и может даже нести проблеск надежды. Это надежда, которая присутствует в каждом пациенте, приходящем на интервью, и наша задача состоит в том, чтобы использовать всю чувствительность и точность, на которые мы способны, чтобы попытаться уловить потенциал для изменения, заключенных в этой надежде.
Как сказал Анжелерг на одном из предыдущих Cимпозиумов [4], у нас есть некоторые основания утверждать, что противоположность депрессии — выжидательно смотреть в будущее; кроме того, состояние, исход и обращение с депрессией со стороны пациентов и тех, кто их лечит, можно рассматривать как жизненно важные для исхода психической дезорганизации или недостатка организации. Если это так, то, я думаю, мы сразу же можем увидеть, насколько важен этот «момент надежды», который всегда является прелюдией к первичному интервью; иногда, действительно, он настолько важен, что его последствия можно почувствовать во время проведения интервью, то есть в фазах «во время» и «после».
Итак, я предлагаю рассмотреть под этими тремя заголовками («до», «во время» и «после») содержание, движение (или инерцию) и результат этого конкретного интервью, которое должно отличаться от того, что было до и от того, что произойдёт дальше.
I. «До»
Я уже сделала несколько отсылок к этой фазе, когда упомянула о надежде, которую a priori несет в себе это интервью. Парадокс, конечно, в том, что мы ничего не знаем о фазе «до» до тех пор, пока мы не окажемся на самом интервью (этап «во время»). Только сам пациент сможет рассказать нам, как это интервью «существовало» до того, как оно действительно произошло. Даже в этом случае мы сами должны находить этот аспект интересным и быть в состоянии понять, что пациент говорит о нём. Проще говоря, мы не должны довольствоваться лишь письмом, адресованным направляющим его коллегой — его либо нам передаст пациент, либо оно могло быть доставлено незадолго до этого каким-либо другим путем, — ни теми несколькими предложениями, в которых пациент рассказывает нам, как он пришёл, чтобы записаться на прием.
По обертонам того, что говорит пациент, даже если это может показаться весьма информативно, даже в состоянии главной психической дезорганизации, мы должны быть в состоянии оценить относительную важность пассивности (например, «Мистер X сказал, что я должен прийти» —довольно стандартный способ выразить это), повторяющегося отчаяния (создается впечатление, что через все интервью проходит мысль: «Все это бесполезно») или что остаются проблески надежды, даже если их отметают («Ну, ведь Вы пришли сюда, никто Вас, кроме, может быть, Вас самих, к этому не принуждал»). Это утверждение — редко явное и, возможно, всегда скрытое — представляет, по моему мнению, что-то очень близкое к известному: «Ну, это же ваш сон». Иными словами, сам факт того, что пациент приходит на интервью и что оно может состояться (даже если, как это иногда бывает, пациент хранит молчание), свидетельствует о наличии достаточно активного желания, присутствующего в этот момент времени. Это желание, очевидно, связано с изменением — по крайней мере, частично — даже несмотря на то, что ему вполне может в какой-то степени помешать параллельное желание продолжать повторение.
Таким образом, нынешнее состояние психической экономики пациента приходится оценивать с самого начала интервью: оно включает в себя все, что было сказано или осталось несказанным в постоянной борьбе пациента между инертностью и отчаянием, с одной стороны, и, с другой стороны, изменением и надеждой. Исходя из этого, вариации в психической экономики, которые мы изначально отмечаем в уме, являются, на мой взгляд, решающим элементом в оценке настоящего состояния психического функционирования пациента (и, в конечном счете, в постановке диагноза и прогноза). Я вернусь к этому моменту позже, поскольку он особенно важен для фазы «во время».
Возвращаясь к аспекту «до», я должна указать, что особые обстоятельства, которые окружают такие интервью в клинике, помогли мне многое узнать об этом этапе или, по крайней мере, обратить на него пристальное внимание в отношении моих рабочих гипотез. Период ожидания приема может быть довольно долгим (иногда несколько месяцев), за исключением особых обстоятельств, когда есть некоторая «срочность». Идея «срочности» почти всегда подчеркивается психиатром пациента, который чувствует, что пришло время сделать новый вид назначения и, возможно, даже процедуры лечения.
Продолжительность периода ожидания и тот факт, что интервью все же проводится, несмотря на это, — это факторы, которые сами по себе красноречиво говорят о желании пациента вступить в «отношения [нового] типа» и об экономической важности этого желания в его разуме. Говоря немного более теоретически, это явное проявление возможностей, доступных человеку для работы с новым объектом катексиса. Предстоящая встреча с аналитиком проходит заранее с достаточной интенсивностью и устойчивостью для проведения интервью.
Относительные пропорции аутоэротических и объектных катексисов в нынешней психической экономике индивида, на мой взгляд [5], являются решающим фактором относительно диагноза. Однако этот предвосхищающий катексис может иссякнуть или даже оказаться дезорганизованным и разрушенным самим интервью; это, казалось бы, указывает либо на неспособность катектировать объект, отличный от того, который хранился глубоко внутри (например, при «холодном» психозе, в котором преобладает аутоэротизм), либо на страх оказаться захваченным «осязаемым» объектом, если можно так выразиться (например, при шизофрении). С другой стороны, может случиться так, что объект был катектирован с достаточным резонансом и гибкостью, чтобы интервью вызвало сновидение, которое определяет его или, что чаще всего, предшествует ему. Отрицание, которое обычно сопровождает его: «Мне приснился сон, но он не имеет ничего общего с ...? — не так уж и важно, за исключением того, что оно свидетельствует о значительной психической работе, которая была проделана в отношении ожидаемой встречи.
На мой взгляд, эта фаза «до», подразумевающая, что мы принимаем во внимание в нашем мышлении то, что могло быть «ожидаемым», её экономическое значение и динамику, которую она вызывает (уважая депрессию и вялость, которые могут также присутствовать), представляет собой первый урок, который может преподать нам «первичное интервью» — оригинальное, новое качество, которое мы должны принять к сведению.
Я уже сделала несколько отсылок к этой фазе, когда упомянула о надежде, которую a priori несет в себе это интервью. Парадокс, конечно, в том, что мы ничего не знаем о фазе «до» до тех пор, пока мы не окажемся на самом интервью (этап «во время»). Только сам пациент сможет рассказать нам, как это интервью «существовало» до того, как оно действительно произошло. Даже в этом случае мы сами должны находить этот аспект интересным и быть в состоянии понять, что пациент говорит о нём. Проще говоря, мы не должны довольствоваться лишь письмом, адресованным направляющим его коллегой — его либо нам передаст пациент, либо оно могло быть доставлено незадолго до этого каким-либо другим путем, — ни теми несколькими предложениями, в которых пациент рассказывает нам, как он пришёл, чтобы записаться на прием.
По обертонам того, что говорит пациент, даже если это может показаться весьма информативно, даже в состоянии главной психической дезорганизации, мы должны быть в состоянии оценить относительную важность пассивности (например, «Мистер X сказал, что я должен прийти» —довольно стандартный способ выразить это), повторяющегося отчаяния (создается впечатление, что через все интервью проходит мысль: «Все это бесполезно») или что остаются проблески надежды, даже если их отметают («Ну, ведь Вы пришли сюда, никто Вас, кроме, может быть, Вас самих, к этому не принуждал»). Это утверждение — редко явное и, возможно, всегда скрытое — представляет, по моему мнению, что-то очень близкое к известному: «Ну, это же ваш сон». Иными словами, сам факт того, что пациент приходит на интервью и что оно может состояться (даже если, как это иногда бывает, пациент хранит молчание), свидетельствует о наличии достаточно активного желания, присутствующего в этот момент времени. Это желание, очевидно, связано с изменением — по крайней мере, частично — даже несмотря на то, что ему вполне может в какой-то степени помешать параллельное желание продолжать повторение.
Таким образом, нынешнее состояние психической экономики пациента приходится оценивать с самого начала интервью: оно включает в себя все, что было сказано или осталось несказанным в постоянной борьбе пациента между инертностью и отчаянием, с одной стороны, и, с другой стороны, изменением и надеждой. Исходя из этого, вариации в психической экономики, которые мы изначально отмечаем в уме, являются, на мой взгляд, решающим элементом в оценке настоящего состояния психического функционирования пациента (и, в конечном счете, в постановке диагноза и прогноза). Я вернусь к этому моменту позже, поскольку он особенно важен для фазы «во время».
Возвращаясь к аспекту «до», я должна указать, что особые обстоятельства, которые окружают такие интервью в клинике, помогли мне многое узнать об этом этапе или, по крайней мере, обратить на него пристальное внимание в отношении моих рабочих гипотез. Период ожидания приема может быть довольно долгим (иногда несколько месяцев), за исключением особых обстоятельств, когда есть некоторая «срочность». Идея «срочности» почти всегда подчеркивается психиатром пациента, который чувствует, что пришло время сделать новый вид назначения и, возможно, даже процедуры лечения.
Продолжительность периода ожидания и тот факт, что интервью все же проводится, несмотря на это, — это факторы, которые сами по себе красноречиво говорят о желании пациента вступить в «отношения [нового] типа» и об экономической важности этого желания в его разуме. Говоря немного более теоретически, это явное проявление возможностей, доступных человеку для работы с новым объектом катексиса. Предстоящая встреча с аналитиком проходит заранее с достаточной интенсивностью и устойчивостью для проведения интервью.
Относительные пропорции аутоэротических и объектных катексисов в нынешней психической экономике индивида, на мой взгляд [5], являются решающим фактором относительно диагноза. Однако этот предвосхищающий катексис может иссякнуть или даже оказаться дезорганизованным и разрушенным самим интервью; это, казалось бы, указывает либо на неспособность катектировать объект, отличный от того, который хранился глубоко внутри (например, при «холодном» психозе, в котором преобладает аутоэротизм), либо на страх оказаться захваченным «осязаемым» объектом, если можно так выразиться (например, при шизофрении). С другой стороны, может случиться так, что объект был катектирован с достаточным резонансом и гибкостью, чтобы интервью вызвало сновидение, которое определяет его или, что чаще всего, предшествует ему. Отрицание, которое обычно сопровождает его: «Мне приснился сон, но он не имеет ничего общего с ...? — не так уж и важно, за исключением того, что оно свидетельствует о значительной психической работе, которая была проделана в отношении ожидаемой встречи.
На мой взгляд, эта фаза «до», подразумевающая, что мы принимаем во внимание в нашем мышлении то, что могло быть «ожидаемым», её экономическое значение и динамику, которую она вызывает (уважая депрессию и вялость, которые могут также присутствовать), представляет собой первый урок, который может преподать нам «первичное интервью» — оригинальное, новое качество, которое мы должны принять к сведению.
II. «Во время»
В самом интервью — независимо от конкретных внешних параметров, таких как присутствие коллег, или того факта, что пациент дал согласие на запись интервью — ритм будет либо неизменным, либо переменным. То, что говорит пациент, может быть полностью предопределено, это своего рода точная копия того, что он неоднократно повторял ранее другим специалистам или себе. Любые комментарии, которые мы можем сделать с целью изменить это, могут остаться без внимания; ранее существовавшая надежда может постепенно ослабевать и распадаться, так что все, что остается, — это своего рода «механическое» развертывание чего-то, напоминающего заранее записанное сообщение. С другой стороны, может случиться так, что несколько комментариев аналитика будут интегрированы в то, что говорит пациент, в возникшее молчание и в перемены, о которых, по мнению пациента, важно узнать.
Например, во время отчета пациента о его симптомах с его повторяющимся «наизусть» перечислением относительно того «как все это произошло», может внезапно появиться новый элемент - вероятно, периферийный и явно не имеющий отношения к делу, но на самом деле какой-то новый. Он открывает путь к тому, как работает разум пациента. Часто это может быть внезапное, но мимолётное всплытие чего-то из прошлого пациента — или, возможно, замечание, несущее в себе идентификационный оттенок (например: "Мой отец тоже так делал"), — или же новый смысл, который аналитик вкладывает в слова пациента: “Разумеется, вы скажете... Вы подумаете...” и т. д.»
Эти новые проблески могут оказаться безжизненными включениями или, наоборот, могут повлиять на оставшуюся часть того, что пациент должен сказать, возникнет новый диалого-ориентированный монолог или истинный диалог или, в лучшем случае, это приведет к тому, что у пациента изменится представление о самом себе. Например, пациент, страдающий обсессивными симптомами, может довольно долго о них говорить, потом может увидеть свой дистресс и изоляцию в терминах начала и окончания невыносимой тревоги, против которой в ход идут проверки всего и вся, включая бредовые фазы и повторяющиеся попытки суицида.
В этой ситуации, несмотря ни на что, способность катектировать объект все еще присутствует, работа горя по потери объекта все еще возможна, и психическая экономика пациента все еще жива и подвижна. Эта экономическая гибкость, о которой свидетельствует динамика интервью, является хорошим предзнаменованием для полезного обращения к предсознательному функционированию. В подобном случае мы должны обратить особое внимание на способность пациента к свободным ассоциациям в отношении того, что говорится, а также на его или ее фантазии или онейрические творения, которые в такого рода интервью почти всегда сообщаются аналитику.
Кроме того, собственное прошлое человека может быть рассказано в живой форме, по-разному «романтизировано», как если бы он мог найти в нем какое-то новое личное значение, а также идею о том, что кто-то другой может найти это интересным. Разумеется, может произойти и обратное: та же старая история, рассказанная снова и снова, свидетельствует о защитном характере такой конструкции — которая, более того, может иметь решающее значение, если она представляет собой единственную скелетную структуру, которая поддерживает пациента. Сама потребность в такой сухости и негибкости доказывает, что психическая экономика пациента на данный момент чрезвычайно хрупка, несмотря на ее строгость, до такой степени, что он не способен поддерживать должный «внутренний защитный щит против раздражителей». Присутствие объекта (в данном случае интервьюера) и сам факт его существования составляют своего рода «колючку в плоти» и могут оказаться опасными, если бы негибкость пациента, лишённая жизненной энергии и заранее подготовленная, не действовала как своего рода покрывало, подобно тому, как море накатывает на песок. Это, конечно, очень важный элемент для диагностики защитных модальностей, к которым прибегает пациент (например, отрицание, а не вытеснение).
Другие пациенты в ходе интервью все больше и больше становятся взволнованными: их мысли и события, о которых они сообщают, могут начать сталкиваться друг с другом, так что конечный результат становится почти хаотичным. Здесь также хрупкая природа психической экономики пациента, переживаемая почти как атака, просто из-за присутствия интервьюера, дает некоторое указание, по крайней мере на начальном этапе, на его способность или неспособность выносить объект и новизну ситуации; это, в свою очередь, указывает на прогноз и рекомендации, которые могут быть предложены в результате интервью.
Таким образом, «новизна» ситуации и представление о том, что это «первичное» интервью, могут привести к различным проявлениям и способам решения этой проблемы; их точная оценка позволяет выдвигать гипотезы относительно обоснования диагноза и прогноза и они, в общем, будут иметь твёрдый фундамент.
Каждый из нас, я полагаю, может вспоминать с некоторым чувством отчаяния пациентов, чьи интервью — возможно, с разными коллегами и в течение некоторого времени - оставались почти одинаковыми на протяжении всей процедуры, независимо от того, кем был интервьюер. Пока сохраняется такая неподвижность, абсолютно бесполезно пытаться использовать какой-либо новый терапевтический подход, даже в тех случаях, когда сам диагноз не представляет никаких проблем — экономических, динамических или топографических / структурных.
Конечно, может случиться так, что отношение аналитика или психиатра во время интервью превратит его в нечто «банальное» и, следовательно, непродуктивное. Разумеется, я не могу составить перечень видов действий, которые могут привести к подобному исходу; по тем же причинам ограниченность пространства не позволяет мне подробно останавливаться на достоинствах и превратностях контрпереноса и контрустановок [6].
Я просто скажу, что интервью такого рода являются особенно подходящей питательной средой для реализации обоих этих аспектов. Очевидно, что аналитик не может укрыться во внимательном, но благоразумном молчании. В конце концов, это не аналитическая сессия; аналитик должен время от времени делать какие-то комментарии, чтобы интервью приобрело качество «новизны» и впоследствии, возможно, привело к тому или иному продуктивному результату. Однако идея о том, что “что-то должно произойти”, может оказаться ловушкой и привести, напротив, к противоположному исходу — например, излишне настойчивая позиция аналитика вызывает либо монотонность, либо возбуждение, заставляя пациента отступить; или же, напротив, чрезмерная дистанция и нейтральность аналитика приводят к тому, что пациент внутренне “сдаётся”, возвращаясь к уже знакомому материалу.
Таким образом, каждый раз возникают новые проблемы. Превратности ситуации для аналитика, возможно, можно описать всего несколькими фразами: желание добиться успеха, вовлечь пациента, контролировать, диктовать, понимать слишком много и слишком быстро. Если можно так выразиться, весьма схематичный характер терминов, которые я только что использовала, едва ли отражает абсолютную сложность всего предприятия или такта, которого оно требует.
В самом интервью — независимо от конкретных внешних параметров, таких как присутствие коллег, или того факта, что пациент дал согласие на запись интервью — ритм будет либо неизменным, либо переменным. То, что говорит пациент, может быть полностью предопределено, это своего рода точная копия того, что он неоднократно повторял ранее другим специалистам или себе. Любые комментарии, которые мы можем сделать с целью изменить это, могут остаться без внимания; ранее существовавшая надежда может постепенно ослабевать и распадаться, так что все, что остается, — это своего рода «механическое» развертывание чего-то, напоминающего заранее записанное сообщение. С другой стороны, может случиться так, что несколько комментариев аналитика будут интегрированы в то, что говорит пациент, в возникшее молчание и в перемены, о которых, по мнению пациента, важно узнать.
Например, во время отчета пациента о его симптомах с его повторяющимся «наизусть» перечислением относительно того «как все это произошло», может внезапно появиться новый элемент - вероятно, периферийный и явно не имеющий отношения к делу, но на самом деле какой-то новый. Он открывает путь к тому, как работает разум пациента. Часто это может быть внезапное, но мимолётное всплытие чего-то из прошлого пациента — или, возможно, замечание, несущее в себе идентификационный оттенок (например: "Мой отец тоже так делал"), — или же новый смысл, который аналитик вкладывает в слова пациента: “Разумеется, вы скажете... Вы подумаете...” и т. д.»
Эти новые проблески могут оказаться безжизненными включениями или, наоборот, могут повлиять на оставшуюся часть того, что пациент должен сказать, возникнет новый диалого-ориентированный монолог или истинный диалог или, в лучшем случае, это приведет к тому, что у пациента изменится представление о самом себе. Например, пациент, страдающий обсессивными симптомами, может довольно долго о них говорить, потом может увидеть свой дистресс и изоляцию в терминах начала и окончания невыносимой тревоги, против которой в ход идут проверки всего и вся, включая бредовые фазы и повторяющиеся попытки суицида.
В этой ситуации, несмотря ни на что, способность катектировать объект все еще присутствует, работа горя по потери объекта все еще возможна, и психическая экономика пациента все еще жива и подвижна. Эта экономическая гибкость, о которой свидетельствует динамика интервью, является хорошим предзнаменованием для полезного обращения к предсознательному функционированию. В подобном случае мы должны обратить особое внимание на способность пациента к свободным ассоциациям в отношении того, что говорится, а также на его или ее фантазии или онейрические творения, которые в такого рода интервью почти всегда сообщаются аналитику.
Кроме того, собственное прошлое человека может быть рассказано в живой форме, по-разному «романтизировано», как если бы он мог найти в нем какое-то новое личное значение, а также идею о том, что кто-то другой может найти это интересным. Разумеется, может произойти и обратное: та же старая история, рассказанная снова и снова, свидетельствует о защитном характере такой конструкции — которая, более того, может иметь решающее значение, если она представляет собой единственную скелетную структуру, которая поддерживает пациента. Сама потребность в такой сухости и негибкости доказывает, что психическая экономика пациента на данный момент чрезвычайно хрупка, несмотря на ее строгость, до такой степени, что он не способен поддерживать должный «внутренний защитный щит против раздражителей». Присутствие объекта (в данном случае интервьюера) и сам факт его существования составляют своего рода «колючку в плоти» и могут оказаться опасными, если бы негибкость пациента, лишённая жизненной энергии и заранее подготовленная, не действовала как своего рода покрывало, подобно тому, как море накатывает на песок. Это, конечно, очень важный элемент для диагностики защитных модальностей, к которым прибегает пациент (например, отрицание, а не вытеснение).
Другие пациенты в ходе интервью все больше и больше становятся взволнованными: их мысли и события, о которых они сообщают, могут начать сталкиваться друг с другом, так что конечный результат становится почти хаотичным. Здесь также хрупкая природа психической экономики пациента, переживаемая почти как атака, просто из-за присутствия интервьюера, дает некоторое указание, по крайней мере на начальном этапе, на его способность или неспособность выносить объект и новизну ситуации; это, в свою очередь, указывает на прогноз и рекомендации, которые могут быть предложены в результате интервью.
Таким образом, «новизна» ситуации и представление о том, что это «первичное» интервью, могут привести к различным проявлениям и способам решения этой проблемы; их точная оценка позволяет выдвигать гипотезы относительно обоснования диагноза и прогноза и они, в общем, будут иметь твёрдый фундамент.
Каждый из нас, я полагаю, может вспоминать с некоторым чувством отчаяния пациентов, чьи интервью — возможно, с разными коллегами и в течение некоторого времени - оставались почти одинаковыми на протяжении всей процедуры, независимо от того, кем был интервьюер. Пока сохраняется такая неподвижность, абсолютно бесполезно пытаться использовать какой-либо новый терапевтический подход, даже в тех случаях, когда сам диагноз не представляет никаких проблем — экономических, динамических или топографических / структурных.
Конечно, может случиться так, что отношение аналитика или психиатра во время интервью превратит его в нечто «банальное» и, следовательно, непродуктивное. Разумеется, я не могу составить перечень видов действий, которые могут привести к подобному исходу; по тем же причинам ограниченность пространства не позволяет мне подробно останавливаться на достоинствах и превратностях контрпереноса и контрустановок [6].
Я просто скажу, что интервью такого рода являются особенно подходящей питательной средой для реализации обоих этих аспектов. Очевидно, что аналитик не может укрыться во внимательном, но благоразумном молчании. В конце концов, это не аналитическая сессия; аналитик должен время от времени делать какие-то комментарии, чтобы интервью приобрело качество «новизны» и впоследствии, возможно, привело к тому или иному продуктивному результату. Однако идея о том, что “что-то должно произойти”, может оказаться ловушкой и привести, напротив, к противоположному исходу — например, излишне настойчивая позиция аналитика вызывает либо монотонность, либо возбуждение, заставляя пациента отступить; или же, напротив, чрезмерная дистанция и нейтральность аналитика приводят к тому, что пациент внутренне “сдаётся”, возвращаясь к уже знакомому материалу.
Таким образом, каждый раз возникают новые проблемы. Превратности ситуации для аналитика, возможно, можно описать всего несколькими фразами: желание добиться успеха, вовлечь пациента, контролировать, диктовать, понимать слишком много и слишком быстро. Если можно так выразиться, весьма схематичный характер терминов, которые я только что использовала, едва ли отражает абсолютную сложность всего предприятия или такта, которого оно требует.
III. «После»
Если встреча проходит достаточно хорошо, возможные результаты можно суммировать под заголовками трех следующих направлений:
1. Интервью действительно вылилось во «что-то новое» - новое событие в жизни пациента, но он еще не чувствует себя в состоянии справиться с этим.
По-видимому, тогда ничего не происходит — точнее, как будто ничего не произошло. Тем не менее, через несколько недель, месяцев или даже лет интервьюируемый просит о новой встрече, еще одном интервью, и хочет проработать определенные вопросы: аспект «новизны» этого первоначального интервью и воспоминания о нем у пациента - возможно, глубоко похороненные, но все еще живые - создает у него впечатление, что он может их проработать. В будущем вполне может произойти что-то новое, что, таким образом, начнет существовать на основе этого «проекта». Возможно, вряд ли стоит указывать на то, что сама идея проекта открывает линию разлома в явной массивности депрессии, в густой тьме отчаяния и горя. «Новизна» этого интервью сначала трансформируется в воспоминание, а затем, постепенно, в проект, направленный, таким образом, в будущее.
2. Интервью действительно нашло отклик, но сама его новизна ужасающе обескуражила. Если отложить его на полку, память о нем портится и теряет весь цвет — возвращается в исходное состояние. Любая активизация внутренних сил, которая могла иметь место, оказалась неспособной подорвать саму тяжесть смертоносного, но обнадеживающего удовольствия, которое доставляет повторение.
3. «Новизна» интервью оказалась действительно продуктивной. Благодаря способности пациента противостоять новому типу отношений с объектом, его нарциссическая непрерывность оказывается усиленной. Ситуация ощущается как довольно благоприятной для того, чтобы доставить пациенту достаточно аутоэротического и объектного бессознательного удовольствия, чтобы восстановить уверенность в себе. Этого удалось достигнуть и затем он может обрести уверенность в каком-то другом человеке.
Затем будет принято совместное решение попробовать какую-либо форму терапии — психоаналитическую психотерапию или, возможно, даже психоанализ — результат которых, конечно, не предрешен, но обе стороны уже ощущают его потенциальную пользу. Некоторые пациенты особенно напуганы тем, что происходит внутри них; они испытывают фобии по отношению того, как работает их разум, одна проявив немало смелости, они могут принять идею этого нового проекта. Иногда таким пациентам может понадобиться утешение или поддержка со стороны человека, с которым они общались в этом новом «первом» интервью.
В ранней работе [7] я указала как может быть важен подобный подход и как он, по моему мнению, может быть понят. Постараюсь немного углубиться здесь в детали.
Для подавляющего большинства, терапия и анализ продолжатся, с их превратностями и плодотворными моментами, которые являются неотъемлемой частью такого начинания, столько, сколько это кажется необходимым. Поэтому мы можем сказать, что для них «первичное» интервью было в самом деле первичным, так как в этот момент для них открылось что-то совершенно новое. Удовольствие от чего-то нового заменило простое повторение — или, говоря более скромно, пациент смог обнаружить, что он может испытывать удовольствие не только от простого повторения. Конечно, это непременное условие любого терапевтического усилия.
Если встреча проходит достаточно хорошо, возможные результаты можно суммировать под заголовками трех следующих направлений:
1. Интервью действительно вылилось во «что-то новое» - новое событие в жизни пациента, но он еще не чувствует себя в состоянии справиться с этим.
По-видимому, тогда ничего не происходит — точнее, как будто ничего не произошло. Тем не менее, через несколько недель, месяцев или даже лет интервьюируемый просит о новой встрече, еще одном интервью, и хочет проработать определенные вопросы: аспект «новизны» этого первоначального интервью и воспоминания о нем у пациента - возможно, глубоко похороненные, но все еще живые - создает у него впечатление, что он может их проработать. В будущем вполне может произойти что-то новое, что, таким образом, начнет существовать на основе этого «проекта». Возможно, вряд ли стоит указывать на то, что сама идея проекта открывает линию разлома в явной массивности депрессии, в густой тьме отчаяния и горя. «Новизна» этого интервью сначала трансформируется в воспоминание, а затем, постепенно, в проект, направленный, таким образом, в будущее.
2. Интервью действительно нашло отклик, но сама его новизна ужасающе обескуражила. Если отложить его на полку, память о нем портится и теряет весь цвет — возвращается в исходное состояние. Любая активизация внутренних сил, которая могла иметь место, оказалась неспособной подорвать саму тяжесть смертоносного, но обнадеживающего удовольствия, которое доставляет повторение.
3. «Новизна» интервью оказалась действительно продуктивной. Благодаря способности пациента противостоять новому типу отношений с объектом, его нарциссическая непрерывность оказывается усиленной. Ситуация ощущается как довольно благоприятной для того, чтобы доставить пациенту достаточно аутоэротического и объектного бессознательного удовольствия, чтобы восстановить уверенность в себе. Этого удалось достигнуть и затем он может обрести уверенность в каком-то другом человеке.
Затем будет принято совместное решение попробовать какую-либо форму терапии — психоаналитическую психотерапию или, возможно, даже психоанализ — результат которых, конечно, не предрешен, но обе стороны уже ощущают его потенциальную пользу. Некоторые пациенты особенно напуганы тем, что происходит внутри них; они испытывают фобии по отношению того, как работает их разум, одна проявив немало смелости, они могут принять идею этого нового проекта. Иногда таким пациентам может понадобиться утешение или поддержка со стороны человека, с которым они общались в этом новом «первом» интервью.
В ранней работе [7] я указала как может быть важен подобный подход и как он, по моему мнению, может быть понят. Постараюсь немного углубиться здесь в детали.
Для подавляющего большинства, терапия и анализ продолжатся, с их превратностями и плодотворными моментами, которые являются неотъемлемой частью такого начинания, столько, сколько это кажется необходимым. Поэтому мы можем сказать, что для них «первичное» интервью было в самом деле первичным, так как в этот момент для них открылось что-то совершенно новое. Удовольствие от чего-то нового заменило простое повторение — или, говоря более скромно, пациент смог обнаружить, что он может испытывать удовольствие не только от простого повторения. Конечно, это непременное условие любого терапевтического усилия.
Поэтому, если мы примем во внимание аспект «новизны», который я подробно изложила, я бы предположила, что то, что мы можем узнать из этого «первичного» интервью, может быть резюмировано следующим образом:
2. Что может быть мобилизовано у пациента в контексте ситуации интервью, со свойственной ей особой внимательностью — другими словами, изменения, происходящие в том, что пациент говорит и в том, как он себя представляет на протяжении интервью, проявляющиеся (или не проявляющиеся) в комментариях аналитика.
3. Качество рассказа пациента о своём прошлом — сухое и безжизненное, словно механически присоединённое, или же такое, которое может быть заново осмыслено в новом свете.
4. Фантазийные и онейрические способности — все еще присутствуют или, возможно, находятся под угрозой.
5. Способ распределения аутоэротических и объектных катексисов позволит поставить более точный диагноз и прогноз.
6. Элементы контрпереноса, выходящие на первый план, оказывают положительное или отрицательное воздействие на интервью и более или менее тонко воздействуют на то, как разворачивается ситуация, и на любой потенциальный терапевтический проект.
Отсутствие или присутствие любого из этих факторов может дать нам первоначальную оценку психической экономики пациента в ее нынешнем виде; это также может помочь нам достичь определенного прогноза, если у нас есть достаточно оснований для того, чтобы зайти так далеко. Важность этих элементов, сообщенная в интервью, которое может пролить лишь частичный и временный свет на затронутые проблемы, и в некоторой степени подчеркивает превратности предприятия.
Эти интервью, несомненно, заставляют задуматься. Тем не менее, мы должны уметь несколько отступить в отношении любой возможной погрешности, чтобы не попасться в ловушку ошибок прогноза - просто потому, что они сами по себе могут привести к ошибкам в терапевтическом исходе.
- Насколько пациент ощущает свободу вступить в подлинные отношения с аналитиком и, тем самым, с самим собой — будь то по личному побуждению или в ответ на чью-либо рекомендацию.
2. Что может быть мобилизовано у пациента в контексте ситуации интервью, со свойственной ей особой внимательностью — другими словами, изменения, происходящие в том, что пациент говорит и в том, как он себя представляет на протяжении интервью, проявляющиеся (или не проявляющиеся) в комментариях аналитика.
3. Качество рассказа пациента о своём прошлом — сухое и безжизненное, словно механически присоединённое, или же такое, которое может быть заново осмыслено в новом свете.
4. Фантазийные и онейрические способности — все еще присутствуют или, возможно, находятся под угрозой.
5. Способ распределения аутоэротических и объектных катексисов позволит поставить более точный диагноз и прогноз.
6. Элементы контрпереноса, выходящие на первый план, оказывают положительное или отрицательное воздействие на интервью и более или менее тонко воздействуют на то, как разворачивается ситуация, и на любой потенциальный терапевтический проект.
Отсутствие или присутствие любого из этих факторов может дать нам первоначальную оценку психической экономики пациента в ее нынешнем виде; это также может помочь нам достичь определенного прогноза, если у нас есть достаточно оснований для того, чтобы зайти так далеко. Важность этих элементов, сообщенная в интервью, которое может пролить лишь частичный и временный свет на затронутые проблемы, и в некоторой степени подчеркивает превратности предприятия.
Эти интервью, несомненно, заставляют задуматься. Тем не менее, мы должны уметь несколько отступить в отношении любой возможной погрешности, чтобы не попасться в ловушку ошибок прогноза - просто потому, что они сами по себе могут привести к ошибкам в терапевтическом исходе.
Примечания
1. Первоначальная версия этой работы была представлена в виде доклада, прочитанного на международном симпозиуме «Психиатрия и психоанализ», проходившем в Монреале (Канада) 5–8 сентября 1984 года. Впоследствии он был опубликован [на французском языке] – но без клинических материалов, представленных на этом симпозиуме – в книге Amyot, A., Leblanc, J., Reed, W. (ред.), Psychiatrie-psychanalyse. Jalons pour une fécondation réciproque [Психиатрия-психоанализ. Некоторые ориентиры для взаимного оплодотворения]. Chicoutimi: Gaëtan Morin editeur, 1985, стр. 11–20.
2 Нижеизложенное существенно отличается от доклада, который я прочитала на симпозиуме. Это связано с необходимостью обеспечения конфиденциальности беседы с пациентом, о которой я тогда говорила. Тогда я, конечно же, смогла поделиться с другими участниками тем, что узнала из этой беседы. К сожалению, в представляемом тексте мне приходится отложить сам материал, поскольку то, как развивался диалог между мной и пациентом, несомненно, было гораздо красноречивее, чем несколько «бледная» версия, которую я здесь даю.
Если подвести итог, то пациентом был молодой человек около тридцати лет, который довольно подробно рассказывал о чрезвычайно активной обсессивной симптоматике, на которую он много жаловался, но которая не могла в достаточной мере выразить и «уравновесить» его глубоко укоренившееся чувство дискомфорта. Также присутствовали многочисленные истерические и ипохондрические компоненты, а также – по крайней мере, в недавнем прошлом, а возможно, и в то время ещё активная – интересная, но несколько нестабильная бредовая конфигурация.
3. Нозографические критерии, о которых я говорю, могут быть как психиатрическими, так и психоаналитическими.
Я не имею в виду, что нозография бесполезна — напротив, я бы сказала, что знания такого рода необходимы, если только их можно отложить в сторону, когда того требует ситуация.
4. «Понятие депрессии», симпозиум Ассоциации психического здоровья 13-го округа Парижа, 3–4 марта 1984 г.
5. Я исследовала эти идеи почти во всех статьях, которые писала в 1980-х годах, например, «Le personnage tiers, sa natural, sa fonction» («Третья сторона: природа и функции»), в «Les cahiers du Center de psychanalyse et de Psychotherapie» (Ассоциация психического здоровья 13-го округа Парижа). Paris, 1981, 3: 1-55. Эта статья была опубликована также как глава в моей книге La Psychose Froide («Холодный» психоз). Париж: Presss Universitaires de France, 2001, стр. 145–177.
6. По моему мнению, между этими двумя понятиями необходимо проводить различие. Семинар, проведённый мной по этой теме в 1983–1984 годах, полностью подтвердил преимущества такого различия, на мой взгляд. Более общее обсуждение контрпереноса см. в работе «Контрперенос в современном психоанализе» (Le contre-transfert en psychanalyse d'aujourd' hui), IVèmes journées occitanes de psychanalyse, Тулуза, 20–22 мая 1982 года, и в главе, написанной мной для книги «Психоаналитик и его пациент» (Le psychanalyste et son patient), Тулуза: Editions Private, 1982.
1. Первоначальная версия этой работы была представлена в виде доклада, прочитанного на международном симпозиуме «Психиатрия и психоанализ», проходившем в Монреале (Канада) 5–8 сентября 1984 года. Впоследствии он был опубликован [на французском языке] – но без клинических материалов, представленных на этом симпозиуме – в книге Amyot, A., Leblanc, J., Reed, W. (ред.), Psychiatrie-psychanalyse. Jalons pour une fécondation réciproque [Психиатрия-психоанализ. Некоторые ориентиры для взаимного оплодотворения]. Chicoutimi: Gaëtan Morin editeur, 1985, стр. 11–20.
2 Нижеизложенное существенно отличается от доклада, который я прочитала на симпозиуме. Это связано с необходимостью обеспечения конфиденциальности беседы с пациентом, о которой я тогда говорила. Тогда я, конечно же, смогла поделиться с другими участниками тем, что узнала из этой беседы. К сожалению, в представляемом тексте мне приходится отложить сам материал, поскольку то, как развивался диалог между мной и пациентом, несомненно, было гораздо красноречивее, чем несколько «бледная» версия, которую я здесь даю.
Если подвести итог, то пациентом был молодой человек около тридцати лет, который довольно подробно рассказывал о чрезвычайно активной обсессивной симптоматике, на которую он много жаловался, но которая не могла в достаточной мере выразить и «уравновесить» его глубоко укоренившееся чувство дискомфорта. Также присутствовали многочисленные истерические и ипохондрические компоненты, а также – по крайней мере, в недавнем прошлом, а возможно, и в то время ещё активная – интересная, но несколько нестабильная бредовая конфигурация.
3. Нозографические критерии, о которых я говорю, могут быть как психиатрическими, так и психоаналитическими.
Я не имею в виду, что нозография бесполезна — напротив, я бы сказала, что знания такого рода необходимы, если только их можно отложить в сторону, когда того требует ситуация.
4. «Понятие депрессии», симпозиум Ассоциации психического здоровья 13-го округа Парижа, 3–4 марта 1984 г.
5. Я исследовала эти идеи почти во всех статьях, которые писала в 1980-х годах, например, «Le personnage tiers, sa natural, sa fonction» («Третья сторона: природа и функции»), в «Les cahiers du Center de psychanalyse et de Psychotherapie» (Ассоциация психического здоровья 13-го округа Парижа). Paris, 1981, 3: 1-55. Эта статья была опубликована также как глава в моей книге La Psychose Froide («Холодный» психоз). Париж: Presss Universitaires de France, 2001, стр. 145–177.
6. По моему мнению, между этими двумя понятиями необходимо проводить различие. Семинар, проведённый мной по этой теме в 1983–1984 годах, полностью подтвердил преимущества такого различия, на мой взгляд. Более общее обсуждение контрпереноса см. в работе «Контрперенос в современном психоанализе» (Le contre-transfert en psychanalyse d'aujourd' hui), IVèmes journées occitanes de psychanalyse, Тулуза, 20–22 мая 1982 года, и в главе, написанной мной для книги «Психоаналитик и его пациент» (Le psychanalyste et son patient), Тулуза: Editions Private, 1982.
Перевод с английского Титов М.Д. (2020). Публикуется в ознакомительных целях
Другие переводы